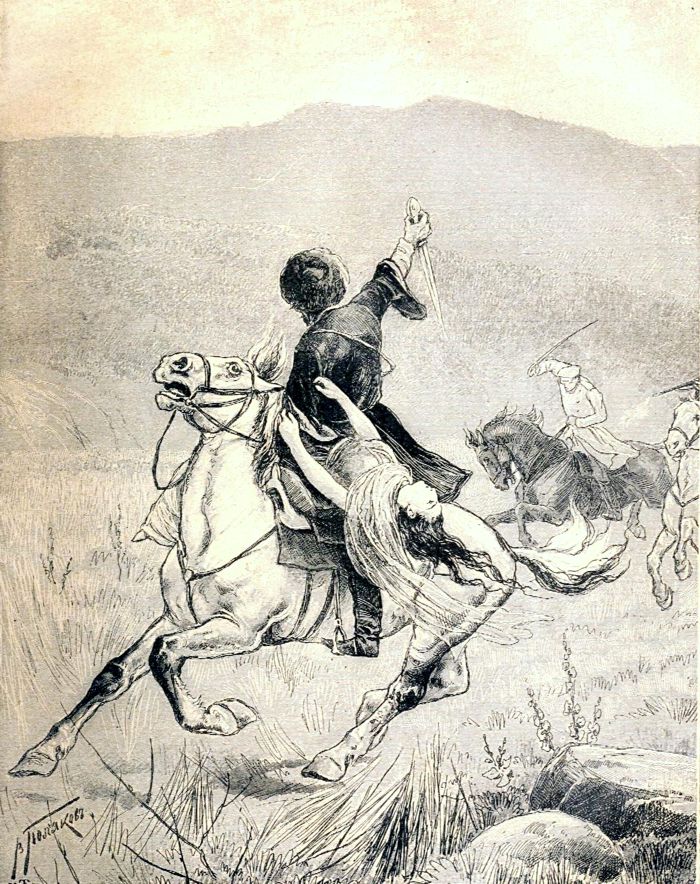До Лермонтова путешествие по Военно-Грузинской дороге описал в путевых записках, написанных в октябре 1818 года и опубликованных значительно позднее, А. С. Грибоедов,
затем А. С. Пушкин в первой главе «Путешествия в Арзрум во время похода 1829 года»[4]. В отличие от Грибоедова и Пушкина
Лермонтов описал Военно-Грузинскую дорогу в обратном направлении — с юга на север, от Тифлиса до Владикавказа. Описания этого пути не раз встречаются в русской
периодической печати и в записках путешественников-иностранцев в 1820-е и 1830-е годы (см., например: Поездка в Грузию [неизвестного автора] // Моск. телеграф.
1833. № 15. С. 327—367; Почтовый дорожник, или Описание всех почтовых дорог Российской империи, царства Польского и других присоединенных областей в трех частях.
СПб., 1824; то же. 2-е изд. СПб., 1829; М. С. Руководство к познанию Кавказа. СПб., 1841. Кн. 2. С. 2—61; Кавказский календарь на 1848 год. Тифлис, 1847. С. 81;
В—в А. Дорога от Тифлиса до Владикавказа // Сборник газеты «Кавказ», второе полугодие 1847 года. Тифлис, 1848. С. 1—53; Вейденбаум Е. Г. От Владикавказа до Тифлиса.
Тифлис, 1913).
Тифлис (Тбилиси — от груз. тбили — теплый) – древнейший город Закавказья, основанный грузинским царем Вахтангом Горгасалом (446—449),
столица Грузии со времен сына Вахтанга Дачи (449—514), который завершил сооружение городских стен и перенес столицу из Мцхеты.
В своей многострадальной истории Тбилиси много раз подвергался нападениям и жестоким военным разрушениям.
В 1830-е годы старшее поколение жителей хорошо помнило страшное нашествие персидского шаха Ага-Муххамез-хана, который в 1795 году превратил Тбилиси в груды развалин,
а население частью истребил, частью увел в плен. В ноябре 1799 года в Тбилиси прибыл русский отряд под командой генерал-майора Лазарева. В 1801 году, после
добровольного присоединения Грузии к России, Тифлис стал губернским городом. Лермонтов был в Тифлисе осенью 1837 года, когда в городе насчитывалось около 30 тысяч
жителей: грузин, армян, азербайджанцев, русских. Сохранилось несколько рисунков и картин Лермонтова, изображающих Тифлис. В стихотворении Лермонтова «Свидание»
(1841) и в записанной им в азербайджанской сказке «Ашик-Кериб» (1837) действие происходит в Тифлисе. См. также запись Лермонтова: «Я в Тифлисе...» (Т. 6. С. 383).
Описание Тифлиса времен Лермонтова и о пребывании там поэта см.: Андроников И. Л. Лермонтов в Грузии в 1837 году. М.: Сов. писатель, 1955; то же. Тбилиси: Заря
Востока, 1958. Ср.: Андроников, с. 243—334. Кроме того, см.: Полиевктов М., Натадзе Г. Старый Тифлис в известиях современников. Тбилиси: Госиздат Грузии, 1929;
ЛЭ; Лермонтовские места. С. 233—239.
Перекладные – казенные почтовые лошади, которые перепрягались, сменялись на почтовых станциях.
«Пассажир, ехавший на почтовых, должен был иметь «подорожную», в которой указывались маршрут, должность и фамилия пассажира и обозначалось, по казенной или по своей
надобности он едет, каких лошадей следовало запрягать ему на станциях — «почтовых» или «курьерских» — и число лошадей. «Прогоны», т. е. плата за каждую лошадь и
версту, взимались в зависимости от тракта. Число лошадей, которое имел право требовать проезжий, обусловливалось его чином и званием. Максим Максимыч, как
штабс-капитан (9-й класс), имел право на три лошади. Кроме казенных «почтовых станций», на дороге расположены были и частные «духаны», харчевни, где ютились на ночлег
грузины и «горцы», т. е. черкесы, чеченцы, осетины и пр. Лермонтов заставляет офицера-повествователя приметить возле духана и «караван верблюдов». Захват русским
правительством Закавказья в 1802—1829 гг. открыл возможность прямой караванной торговли России с Персией и Турцией» (Дурылин, с. 178—179).
Койшаурская долина, Койшаурская Гора, Арагва. – Известная своей красотой и богатейшей растительностью Койшаурская долина является верхней
частью долины Арагвы, левого притока Куры, которая берет начало в Гудовском ущелье под перевалом Военно-Грузинской дороги.
Ср. в «Путешествии в Арзрум» Пушкина: «С высоты Гуд-горы открывается Койшаурская долина с ее обитаемыми скалами, с ее садами, с ее светлой Арагвой, извивающейся, как
серебряная лента, — и все это в уменьшенном виде, на дне трехверстной пропасти, по которой идет опасная дорога» (Пушкин. Т. 6. С. 656).
Грибоедов, проезжавший тут с севера на юг в октябре 1818 года, отметил: «Арагва внизу вся в кустарниках, тьма пашней, стад, разнообразных домов, башен, хат, селений,
стад овец и коз (по камням все ходят), руин, замков, церквей и монастырей разнообразных, иные дики... Много ручьев и речек с гор стремятся в Арагву...» Ср. Беляев
А. П. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. СПб., 1882. С. 400—401 (описание Койшаурской долины, относящееся к 1840 году).
...полного мглою ущелья... – Это выражение встречается у Лермонтова не раз. См. в «Княжне Мери» в записи от 10 июня: «...ущелья, полные
мглою и молчанием...» (С. 159), а также в стихотворении 1840 года «Из Гёте» («Горные вершины»):
Тихие долины
Полны свежей мглой.
Духан – харчевня, трактир, также мелочная лавка.
...я нанял шесть быков... – Шесть быков для подъема тележки в зимнее время на Крестовый перевал не превышали ни в какой мере обычного числа
быков. Так, В. А. Полторацкий в воспоминаниях утверждает, что в декабре 1846 года один путешественник поднимался «на шести парах [т. е. 12-ти] волов в Койшаурскую
анафемскую гору» (Ист. вестн. 1893. Кн. 1. С. 58).
Подъем «тележки» в гору на быках, нанимаемых у осетин, описал в «Путешествии в Арзрум» и Пушкин: «...услышали мы шум, крики и увидели зрелище необыкновенное: 18 пар
тощих, малорослых волов, понуждаемых толпою полунагих осетинцев, насилу тащили легкую венскую коляску приятеля моего О.» (Пушкин. Т. 6. С. 654).
Пушкин просто передает факт, не ставя большое число быков (36) ни в какую связь с плутовством их хозяев.
У Лермонтова Максим Максимыч — при подобных же тяжелых условиях подъема на тот же перевал, только с другой, южной стороны — число быков объясняет «плутовством» осетин
погонщиков. Это характерная черта русского офицера-кавказца, находящегося всегда настороже в краю, где еще шла ожесточенная война.
Ставрополь – основан в 1777 году как одна из десяти крепостей Азовско-Моздокской укрепленной линии, созданной для охраны южных границ России
на Северном Кавказе. В 1785 году поселок при крепости был превращен в уездный город Кавказской губернии. В 1822 году при преобразовании Кавказской губернии в область
Ставрополь стал ее центром. Через Ставрополь проходил главный почтовый тракт, связывавший Кавказ с Москвой и Петербургом. Здесь находился Штаб войск Кавказской линии
и Черномории.
По долгу службы обязанный являться в Штаб войск Кавказской линии и Черномории, Лермонтов неоднократно бывал в Ставрополе в 1837, 1840, 1841 годах. Здесь он
представлялся командующему войсками генерал-адъютанту П. Х. Граббе (1789—1875), бывал в доме своего родственника, начальника Штаба войск Кавказской линии П. И. Петрова
(1790—1871), встречался с сосланными декабристами С. Кривцовым, В. Голицыным, В. Н. Лихаревым, М. А. Назимовым, М. М. Нарышкиным, А. И. Одоевским и А. И. Черкасовым,
а также их друзьями Н. М. Сатиным и доктором Н. В. Майером.
В 1837—1841 годах в Ставрополе насчитывалось около 5000 жителей — русских, армян, грузин и других национальностей (см.: Военно-статистическое обозрение Российской
Империи. Т. 16. Ч. I. Ставропольская губерния. СПб., 1851. С. 240).
О Ставрополе кроме статей в Энциклопедических словарях Брокгауза и Ефрона, Граната, БСЭ и др. см.: Гниловский В. Г. Территориальное развитие города Ставрополя в
первой половине XIX столетия // Материалы по изучению Ставропольского края. Вып. 4. Ставрополь, 1952; Краснов Г. Д. Ставрополь на Кавказе: Ист. очерк. 2-е изд.
Ставрополь: Кн. изд-во, 1957; ЛЭ; Лермонтовские места. С. 191—199.
...служил при Алексее Петровиче... Когда он [Ермолов] приехал на Линию... – Алексей Петрович Ермолов (1772—1861) начал военную службу в
артиллерии под начальством Суворова. В 1798 году за письмо к А. М. Каховскому, брату по матери, с резкими отзывами о начальстве Ермолов был заключен в Петропавловскую
крепость, а затем сослан в Кострому. С воцарением Александра I, в июне 1801 года, Ермолову было разрешено вернуться на военную службу. В войне 1812 года он был уже
начальником штаба сначала первой армии, потом обеих соединенных армий. В боях под Бородином, Бауценом и Кульмом Ермолов проявил личный героизм, а также талант
военного организатора. В 1815 году он был назначен главнокомандующим на Кавказ. Здесь в самых трудных условиях удивительные организаторские способности Ермолова
проявились особенно ярко. С 1818 года Ермолов приступил к систематическому проведению в жизнь своего плана покорения горских народов Северного и Центрального Кавказа.
При Ермолове в Чечне, Дагестане и на Кубани были возведены новые крепости (Грозная, Внезапная, Бурная); значительно улучшена Военно-Грузинская дорога; на военную и
гражданскую службу на Кавказе и в Закавказье привлечена даровитая и образованная молодежь (Грибоедов, Кюхельбекер и др.).
Резкий и прямой, не умевший угождать высшему начальству, Ермолов пользовался большой популярностью среди своих подчиненных, в том числе среди молодого поколения, из
которого вышли будущие декабристы. Ермолов предупредил Грибоедова о грозящем ему аресте за причастность к декабристскому движению.
Близость Ермолова к декабристам и его оппозиционные настроения были хорошо известны Николаю I. После разгрома декабристов участь его была решена. В Грузию как бы в
помощь Ермолову, а на самом деле для надзора за ним был послан генерал-адъютант Паскевич. Наконец в 1827 году Ермолов получил отставку, покинул Кавказ и окончательно
удалился от дел. В 1829 году в Калуге его навестил Пушкин, описавший эту встречу в первой главе «Путешествия в Арзрум».
Ермолов оставил содержательные записки, изданные под заглавием «Записки Алексея Петровича Ермолова с приложениями. Изд. Н. П. Ермолова. Ч. 1—2. М., 1865—1868;
Переизд.: М.: Высш. шк., 1991. См. также: Погодин М. П. Материалы для биографии Ермолова // Рус. вестн. 1863. № 8—12; Ермолов Александр. А. П. Ермолов: Биогр. очерк.
СПб.: Изд. Имп. рус. воен.-ист. о-ва, 1912; Ермолов А. П. Письма / Предисл. А. Тахо-Годи. Махачкала, 1926. Библиография о Ермолове помещена в журн. Рус. библиофил.
1911. Кн. 4; Нечкина М. В. Грибоедов и декабристы. 2-е изд. М.: Изд-во АН СССР, 1951. С. 193—200 и др.; ЛЭ; Библиография 1 и 2.
С детских лет Лермонтова окружали люди, хорошо знавшие Ермолова и даже служившие под его началом (например, П. П. Шан-Гирей). Вполне возможно, что еще мальчиком, в
1827—1828 годах, Лермонтов видел Ермолова в Москве в домах П. М. Меликова и П. А. Мещеринова. Об этом см.: Меликов М. Е. Заметки и воспоминания художника-живописца
// Воспоминания. С. 72.
Возможно, что стихотворение Лермонтова 1836 года «Великий муж! Здесь нет награды...» (Т. 2. С. 79) обращено к Ермолову, а не к П. Я. Чаадаеву или М. Б. Барклаю де
Толли, как это считалось раньше.
Имя Ермолова — единственное имя русского полководца, упомянутое в «Герое нашего времени» и в примыкающем к этому роману очерке Лермонтова «Кавказец» (1841). Кроме
того, Ермолов назван в стихотворном послании к В. А. Лопухиной «Валерик» — «Я к вам пишу, случайно! право» (1841):
Вот разговор о старине
В палатке ближней слышен мне;
Как при Ермолове ходили
В Чечню, в Аварию, к горам;
Как там дрались, как мы их били,
Как доставалося и нам...
Видимо, о Ермолове говорит Лермонтов в начале поэмы «Мцыри»: «Однажды русский генерал из гор к Тифлису проезжал...» (Т. 4. С. 149) и в стихотворении «Спор» (1841):
И испытанный трудами
Бури боевой,
Их ведет, грозя очами,
Генерал седой.
«Кавказец» и «Спор» написаны Лермонтовым вскоре после личной встречи с Ермоловым. Эта встреча могла состояться в Орле или в Москве в конце января — начале февраля
1841 года, когда проездом в Петербург Лермонтов должен был передать Ермолову частное письмо от командующего войсками Кавказской линии и в Черномории генерал-адъютанта
П. Х. Граббе, написанное около 14 января. Об этом см.: Андреев-Кривич С. А. Кабардино-Черкесский фольклор в творчестве Лермонтова // Учен. зап. Кабард. науч.-исслед.
ин-та. Т. 1. Нальчик, 1946. С. 260; Андроников И. Л. Лермонтов и Ермолов // Андроников, с. 480—496.
На пути к месту последней дуэли Лермонтов рассказывал М. П. Глебову о своем замысле написать роман «из Кавказской жизни, с Тифлисом при Ермолове» (Мартьянов П. К.
Дела и люди века. Т. 2. СПб., 1893. С. 93—94).
П. Бартенев сообщил отклик А. П. Ермолова на известие о гибели Лермонтова: «Уж я бы не спустил этому Мартынову!.. Если бы я был на Кавказе, я бы спровадил его; там
есть такие дела, что можно послать да, вынувши часы, считать, через сколько времени посланного не будет в живых. И было бы законным порядком. Уж у меня бы он не
отделался. Можно позволить убить всякого другого человека, будь он вельможа и знатный: таких завтра будет много, а этих людей не скоро дождешься»! (Бартенев П. А.
Разговор с А. П. Ермоловым // Рус. архив. 1863. С. 440—441; см. также: Воспоминания. С. 511).
Упоминание имени опального Ермолова с подчеркнутым сочувствием и уважением на первых же страницах романа Лермонтова воспринималось читателями того времени как смелый
выпад оппозиционно настроенного автора. Максим Максимыч называет Ермолова не по фамилии, а просто по имени и отчеству; это свидетельствует о любви к нему старых
кавказцев. И не случайно Лермонтов отмечает, что, произнося это дорогое ему имя, Максим Максимыч «приосанился»: воспоминание о службе под началом Ермолова для Максима
Максимыча, быть может, самая большая его гордость. Характерно, что чины поручика и штабс-капитана Максим Максимыч получил еще при Ермолове. С тех пор, вот уже лет
десять, Максим Максимыч так и остается штабс-капитаном, без дальнейшего производства, неудачником, которому не задалась служебная карьера при новом начальстве. Но
полученные при Ермолове чины ценились настоящими кавказцами, ибо Ермолов, как говорит историк, «был очень разборчив и скуп на награды» (Вейденбаум Е. Г. Кавказские
этюды. Тифлис, 1901. С. 230). О Ермолове см. также: Дурылин, с. 35—69.
Линия – Е. Хамар-Дабанов (Е. А. Лачинова) в романе «Проделки на Кавказе» дает следующее объяснение: «По общему выражению «Кавказская линия»,
по военно-техническому — «Кавказская кордонная линия», есть протяжение от Черного моря до Каспийского, тянущееся сначала вверх по правому берегу Кубани, потом
недлинною сухою границей и, наконец, по левым берегам рек Малки и Терека. По этой линии проложена большая почтовая дорога, почти круглый год безопасная. На
противолежащих же берегах русскому нельзя и носа показать без прикрытия, не подвергаясь опасности быть схвачену в плен или убиту...» (Хамар-Дабанов Е. Проделки на
Кавказе. Ч. 1. СПб., 1844. С. 79—80).
В 1830-х годах Кавказская линия, еще не достигшая полного развития, делилась на следующие части: Черноморская кордонная линия, правый фланг, центр, левый фланг и
Владикавказский округ. По всей линии были расположены казачьи и регулярные войска и выстроен ряд больших крепостей и мелких укреплений.
О Кавказской линии см.: Дебу И. О Кавказской линии и присоединенном к ней черноморском войске, или Общие замечания о поселенных полках, ограждающих Кавказскую линию,
и о соседственных горских народах. СПб., 1829; он же. О начальном установлении и распространении Кавказской линии // Отеч. зап. 1823. Т. 16. № 43; 1824. Т. 18. №
49 и Т. 19. № 51; Взгляд на Кавказскую линию // Сев. архив. 1822. Ч. 1. № 2; Беляев А. П. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. 1805—1850. СПб.,
1882. С. 373—376.
Осетины шумно обступили меня... – Осетины, называющие себя ирон, по грузински — оси, населяют Северную и Южную Осетию, расположенную в
центральной части Кавказского хребта, по обе его стороны. Через Осетию проходят две перевальные шоссейные дороги: Военно-Грузинская (через Крестовый перевал на
Тбилиси) и Военно-Осетинская (через Мамисонский перевал на Кутаиси). В XIX веке осетины называли себя по ущельям, которые они населяли: куртатинцы — по Фиагдону,
дигорцы — по Дигорскому ущелью, где течет Урух; алагирцы — по Ардону, тагаурцы — по Гизельдону. Высшее сословие — алдары в различных ущельях назывались по-разному
(баделят, царгасат, тагиат и др.). В 1833 году осетин насчитывалось 35 750 человек. В те времена осетины жили в страшной бедности, занимались, главным образом,
скотоводством и земледелием, страдая от скученности и малоземелья. Извозный промысел на Военно-Грузинской дороге был исключительно в руках осетин. Тяжелое
экономическое положение и почти поголовная безграмотность и отсталость связывали духовные силы народа, глушили в нем всякую предприимчивость и инициативу. «Самое
бедное племя из народов, обитающих на Кавказе», — писал об осетинах Пушкин в «Путешествии в Арзрум». Этим и объясняется пренебрежительный отзыв Максима Максимыча об
осетинах.
Распространение русского влияния на Кавказе во второй половине XIX века благотворно сказалось на развитии культуры Осетии.
Под воздействием передовой русской мысли сформировалась осетинская демократическая интеллигенция, сложилось революционно-демократическое мировоззрение лучших сынов
осетинского народа, и в том числе народного поэта, общественного деятеля и публициста Косты Хетагурова (1859—1906).
О жизни и быте осетин в первой половине XIX века см.: Кокиев С. В. Записки о быте осетин // Сборник материалов по этнографии, издаваемый Дашковским этнографическим
музеем. Вып. 1, 1885; Лавров Д. Заметки об Осетии и осетинах // Материалы для описания местностей и племен Кавказа. Вып. 3, 1883; Семенов Л. П., Тедтоев А. А.
Город Орджоникидзе. (Крат. ист. очерк). Орджоникидзе: Сев.-Осет. кн. изд-во, 1957; История Северо-Осетинской АССР. М.; Орджоникидзе: Изд-во АН СССР, 1959—1966;
Калоев Б. А. Осетины: Ист.-этногр. исследование. М.: Наука, 1967. С. 243.
Татары – одно из общих названий для тюркоязычных народов Кавказа и Закавказья, исповедующих мусульманство (азербайджанцы, кумыки, балкарцы и т. д.). В более широком смысле в кавказоведческой литературе XIX века татары — горцы-мусульмане Северного Кавказа и Дагестана. В произведениях Лермонтова это слово встречается в обоих смыслах — и как название кумыков (в «Герое нашего времени»), и как обозначение горцев-мусульман («Валерик» и «Свидание»). Максим Максимыч в «Бэле» говорит о татарах как непьющем народе: коран запрещал правоверным мусульманам употреблять спиртное. Впрочем, это требование часто нарушалось.
В конце ноября — первой половине декабря 1837 года Лермонтов писал из Тифлиса С. А. Раевскому: «Начал учиться по-татарски, язык, который здесь, и вообще в Азии,
необходим, как французский в Европе, — да жаль, теперь не доучусь, а впоследствии могло бы пригодиться» (Т. 6. С. 441). Сравнение «татарского» языка с французским
неоднократно встречается в литературе 1820—1830-х годов. Так, например, Нечаев в путевых записках, помещенных в «Московском телеграфе» (1826. Т. 7. С. 35), написал
что татарский или турецкий язык «в таком же всеобщем употреблении между кавказскими племенами, в каком теперь французский язык в Европе». Ср. примечание А. А.
Бестужева-Марлинского в рассказе «Красное покрывало»: «Татарский язык закавказского края отличается от турецкого, и с ним, как с французским в Европе, можно пройти
из конца в конец всю Азию». Об этом подробнее см.: Михайлов М. С. К вопросу о занятиях Лермонтова «татарским» языком // Тюркологический сборник. Т. 1. М.; Л.:
Изд-во АН СССР, 1951. С. 127—135; Виноградов Б. С. Горцы в романе Лермонтова «Герой нашего времени» // М. Ю. Лермонтов: Вопросы жизни и творчества. Орджоникидзе,
1963. С. 57; Андроников И. Л. Ученый татарин Али // Андроников, с. 352 и 363—367.
До станции оставалось еще с версту. Кругом было тихо, так тихо, что по жужжанию комара можно было следить за его полетом. – К концу 1830-х
годов описания кавказской природы в русской романтической литературе стали общим местом. Лермонтов в романе «Герой нашего времени» сознательно преодолевал традицию
Марлинского. Об этом писал С. П. Шевырев: «Марлинский приучил нас к яркости и пестроте красок, какими любил он рисовать картины Кавказа. Пылкому воображению
Марлинского казалось мало только что покорно наблюдать эту великолепную природу и передавать ее верным и метким словом. Ему хотелось насиловать образы и язык; он
кидал краски с своей палитры гуртом как ни попало и думал: чем будет пестрее и цветнее, тем более сходства у списка с оригиналом... Поэтому с особенным удовольствием
можем мы заметить в похвалу нового кавказского живописца, что он не увлекся пестротою и яркостью красок, а, верный вкусу изящного, покорил трезвую кисть свою
картинам природы и списывал их без всякого преувеличения и приторной выисканности... Автор не слишком любит останавливаться на картинах природы, которые мелькают у
него только эпизодически. Он предпочитает людей и торопится мимо ущелий кавказских, мимо бурных потоков, к живому человеку, к его страстям, к его радостям и горю, к
его быту, образованному и кочевому» (Москвитянин. 1841. Ч. 1. № 2. С. 519—520).
Гуд-гора в главном Кавказском хребте с северной стороны отделяется от Крестовой горы небольшой долиной, известной под именем Чертовой. В середине XIX века гора Гуд
входила в территорию Тифлисской губернии, в Горский округ. В те времена Военно-Грузинская дорога пролегала по Гуд-горе. В зимние месяцы это была самая опасная часть
дороги от свисавшей над нею снежной массы, иногда в несколько сажен толщиной. Лавина нередко падала через дорогу и уносила за собой в пропасть все, что попадалось ей
на пути.
«Дорога на Крестовую, Гуд и Кайшаурскую гору идет по краям обрывов, имеющих утесистые покатости сажен в 100 и более, где по бокам нет никакого забора, ни каменного
устоя, который мог бы предохранить от неосторожного скачка или шага лошади, могущей через то упасть в бездну, что особенно может случиться во время ненастья, туманов
и вьюги, преимущественно бывающих здесь по вечернем закате солнца и в ночное время» (Руководство к познанию Кавказа. Кн. 2. СПб., 1847. С. 59; ср. коммент. к фразе
«...были ль обвалы на Крестовой?» — С. 210).
У подошвы горы расположена деревня Гуда, неподалеку от Гудовского ущелья берет начало река Арагва. В Гудовском ущелье в 1830-е годы путешественники часто осматривали
развалины двух древних крепостей: одну при церкви Квела-Цминда, другую при церкви Квири-Цховлиса, по преданию основанных царицей Тамарой. См.: Семенов П. П.
Географическо-статистический словарь Российской Империи. СПб., 1863. Т. 1. С. 707—708.
Бурка – войлочный плащ без рукавов с длинным ворсом (или начесом), национальная одежда кавказских горцев, не промокает под дождем и снегом,
удобна для езды верхом и для ночлега в пути. В годы кавказской войны ее оценили и русские; лермонтовский кавказец предпочитает бурку шинели: «Бурка его тога, он в
нее драпируется; дождь льет за воротник, ветер ее раздувает — ничего! бурка, прославленная Пушкиным, Марлинским и портретом Ермолова, не сходит с его плеча, он спит
на ней и покрывает ею лошадь; он пускается на разные хитрости и пронырства, чтобы достать настоящую Андийскую бурку, особенно белую с черной каймой внизу, и тогда
уже смотрит на других с некоторым презрением» (Т. 6. С. 350). Сам Лермонтов на Кавказе летом и осенью 1837 года носил бурку; на известном акварельном автопортрете
он изобразил себя на фоне Эльбруса в бурке, возможно, следуя знаменитому портрету Ермолова работы Дж. Доу.
В русскую литературу бурка едва ли не впервые введена Пушкиным в «Кавказском пленнике»:
...черкес проворный,
Широкой степью, по горам,
В косматой шапке, в бурке черной,
К луке склонясь, на стремена
Ногою стройной опираясь,
Летел по воле скакуна (Пушкин. Т. 4. С. 114).
Сохранился автопортрет Пушкина, изображающий его на коне в бурке во время путешествия в Арзрум (см.: Эфрос А. М. Автопортреты Пушкина. М.: Гослитмузей. 1945. С.
109).
О бурках и их производстве см.: Берже А. П. Материалы для описания нагорного Дагестана. Тифлис, 1859; Маргграф В. В. Очерки кустарных промыслов Северного Кавказа с
описанием техники производства. М., 1888.
...были ль обвалы на Крестовой? – Военно-Грузинская дорога обходит Казбек с востока. Ледники, спускающиеся с вершины Казбека, а также с
других вершин (Крестовой, Гуд-горы), бывают причиной обвалов. В этом отношении самый опасный из ледников Казбека — Девдоракский. В первой половине XIX века в этом
месте обрушились обвалы в 1808, 1817 и 1832 годах. Последний обвал был особенно ужасен: 12 августа обрушилась такая масса снега, льда и камней, что засыпало дно
ущелья на протяжении двух верст высотою до 50 сажен. Терек на некоторое время остановился, образовав выше обвала большое озеро. Два года загораживал этот обвал
дорогу; нагроможденный лед и снег переходили пешком по вырубленным ступеням. Другое опасное место на Военно-Грузинской дороге — перевал между станциями Коби и Млеты.
См.: Сборник сведений о завалах, упавших с горы Казбек с 1776 по 1878 г. на Военно-Грузинскую дорогу. Тифлис, 1884; Руководство к познанию Кавказа. Кн. 2. СПб.,
1847. С. 57 и след.; ср. коммент. к слову «Гуд» на с. 208—209.
Сакля – от грузинского сахли — дом. Иногда в самых зажиточных горских семьях сакля делилась на две половины; мужскую, она же кунацкая, и
женскую. Но чаще всего в лермонтовские времена у народов Северного Кавказа жилье состояло из одной комнаты, где помещалась вся семья. Женской половины обычно не
было, но с женитьбой сыновей молодые брачные пары жили в отдельном доме в том же дворе или в отдельной комнате. Богатый и знатный горец, особенно в Адыгее и в
Кабарде, если не было гостей, чаще всего ночевал в кунацкой. Если у него было несколько жен, то у каждой из них было свое, особое помещение. Горская беднота жила в
сакле без сеней, без двора, без изгороди. Главная часть осетинской сакли — большая общая комната, служившая одновременно и кухней и столовой. Целый день в ней
происходила стряпня, так как у осетин не было определенного времени для еды и члены семьи ели не все вместе, а сначала — старшие, затем — младшие. Посреди комнаты,
как это отметил Лермонтов, обычно находился очаг, над которым на цепи висел медный или чугунный котел. Очаг — центр, около которого проходила вся жизнь семьи.
Железная цепь, прикрепленная к потолку у дымового отверстия, — самый священный предмет в доме: приблизившийся к очагу и прикоснувшийся к цепи становился близким
семье; оскорбление цепи, унесение ее из дому считалось величайшей обидой для дома, которая требовала кровной мести.
У Лермонтова слово «сакля» встречается во многих кавказских поэмах («Кавказский пленник», «Каллы», «Измаил-Бей», «Аул Бастунджи», «Хаджи Абрек», «Беглец», «Мцыри»),
в «Герое нашего времени» и в очерке «Кавказец».
Кабардинцы – народ, населявший Большую и Малую Кабарду. Современные кабардинцы, черкесы и адыгейцы называют себя адыге
и происходят от местных племен, издревле населявших Северо-Западный Кавказ и известных под наименованиями меоты, синды, керкеты, зихи и пр. Кабардинцы, черкесы,
адыгейцы объединяются под общим понятием — адыгейские народы. Язык их принадлежит к абхазо-адыгской группе кавказско-иберийских языков. Нынешнюю территорию кабардинцы
заняли еще в XIII—XIV веках. В XIX веке на Кавказе кабардинцев часто называли черкесами, не отделяя их от этого близкого им по языку и происхождению народа.
В XIX веке у кабардинцев еще существовал феодальный строй, сочетавшийся с рабством и пережитками первобытно-общинных отношений. Сохранялись семейная община, обычаи
аталычества[5], куначества, кровной мести. Князья (пши) и дворяне (уорки) эксплуатировали зависимых крестьян (общинников
— тхлокотлей и крепостных — пшитлей), а также рабов — унаутов. В течение долгого времени кабардинские князья держали в зависимости многие горские племена — осетин,
ингушей, абазинцев — и владели всеми дорогами, ведущими с плоскости к наиболее удобному перевалу через Главный Кавказский хребет.
Кабардинцы были признаны на Северном Кавказе как законодатели хорошего тона и манер; все горцы и казаки заимствовали у них вооружение, посадку на коне.
Кабардинцы издавна находились под влиянием русской культуры. С XVI века завязались прочные связи с Россией, а в 1774 году Кабарда окончательно вошла в состав Русского
государства. Если в XIX веке кабардинцы жили в плетеных, обмазанных глиной хижинах, крытых камышом или соломой, то теперь их поселения состоят из саманных домов под
черепичными крышами, с большими окнами и печами. По Всесоюзной переписи 1970 года кабардинцев насчитывалось 280 000 человек. В годы Советской власти создана
национальная кабардинская письменность на основе русской графики, введено всеобщее обучение, ликвидирована вековая неграмотность (см.: История Кабардино-Балкарской
АССР. Т. 1—2. М.: Наука, 1967). Произведения Лермонтова переведены на кабардинский язык.
В стихотворении «Дары Терека» Лермонтов создал образ молодого воина-кабардинца.
Чечня – До 1840 года пространство в границах: на западе — р. Фортанга (ныне считают р. Нетахой) до укрепления Ачхоевского, затем через
Казах-Кичу до станицы Стодеревской; на севере — Терек до впадения в него Сунжи; на востоке — Кочкалыковский хребет, затем от Герзельаула до крепости Внезапной и
верховья реки Акташ; на юге — Андийский хребет до реки Шаро-Аргуна и Черных гор, далее до истоков реки Фортанги (по Берже). Сунжа разделяла Большую (возвышенную) и
Малую (низменную) Чечню. Горная юго-восточная Чечня называлась Ичкерией. В годы кавказской войны Чечня была житницей Шамиля. В XVIII веке большая часть Чечни была
покрыта массивами ценных пород леса, но в XIX веке, в годы кавказской войны, эти леса вырубались из соображений стратегического порядка, а вырубленный лес шел на
строительство русских укреплений на Сунженской равнине.
В 1840 году Чечня присоединилась к Шамилю, и на ее территории начались серьезные сражения. В этих военных действиях участвовал служивший в Тенгинском пехотном полку
Лермонтов. С отрядом генерала А. В. Галафеева он дважды был в походе из крепости Грозной в Чечню и в стихотворном послании «Валерик» («Я к вам пишу...») описал
кровопролитное сражение на реке Валерик 11 июля 1840 года. Принимал Лермонтов участие и в сражении на этой реке 30 октября того же года.
О Чечне см.: Берже А. П. Чечня и чеченцы. Тифлис, 1859; Попов И. М. Ичкерия: Ист.-топогр. очерк // Сборник сведений о кавказских горцах. Вып. 4. Тифлис, 1870;
Головинский П. А. Чеченцы // Сборник сведений о Терской области. Вып. 1. Владикавказ, 1878. С. 241—260; Семенов Л. П. Лермонтов на Кавказе. Пятигорск: Орджоникидз.
краев. изд-во, 1939; Ениколопов И. К. Лермонтов на Кавказе. Тбилиси: Заря Востока, 1940; Попов А. В. Лермонтов на Кавказе. Ставрополь: Кн. изд-во, 1954; Виноградов
Б. С. Русские писатели в Чечено-Ингушетии. Грозный: Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1958; Народы Кавказа / Под ред. М. О. Косвена и др. Т. 1. М.: Изд-во АН СССР, 1960.
612 с. (Народы мира. Этногр. очерки); Лермонтовские места. С. 241—269.
Чеченцы, сами себя называющие нохчо (люди), принадлежат к нахской ветви кавказских языков, куда входят также ингушский и бабийский (цоватушинский) языки. Данные
археологии и топонимики позволяют считать чеченцев аборигенами Северного Кавказа. Чеченцы упоминаются в «Армянской географии VII в.». Народы, обитавшие по соседству,
называли чеченцев различно: мичигиш, шашэн, цацан, кисты и пр. Русское название произошло от села Большой Чечен на реке Аргун. До XV—XVI веков чеченцы жили главным
образом в горах, но постепенно стали переселяться на равнину. Экономические и культурные связи чеченского народа с русским народом отмечены уже в XVI веке, в период
существования русских крепостей (старые и новые Терки) и начала дружбы с гребенскими казаками. Чеченцы научились у русских строить дома, обрабатывать поля, выращивать
овощи, разводить фруктовые сады, передав в свою очередь казакам ряд хозяйственных навыков, занятий и этнографических черт (костюм, обычаи и пр.). В XVI веке
произошла мусульманизация Чечни, где до того было распространено язычество и, отчасти, христианство. Мусульманство принесло чужой язык (арабский), чужие обычаи,
религиозный фанатизм, ненависть к инаковерующим, в том числе и к русским. Мусульманское духовенство разжигало эту ненависть. Сопротивляясь русским войскам, чеченцы
вместе с тем укрепляли экономические связи с русскими. В 1858 году Чечня отделилась от имамата Шамиля и присоединилась к России.
При чтении романа Лермонтова, а также других его произведений о Кавказе следует учитывать распространенный среди его современников взгляд на Чечню и чеченцев. Так,
А. П. Ермолов считал чеченцев «самыми злейшими из разбойников, нападающих на линию. Общество их весьма малолюдно, но чрезвычайно умножилось в последние несколько лет,
ибо принимались дружественно злодеи всех прочих народов, оставляющие землю свою по каким-либо преступлениям» (Ермолов А. П. Записки. 1798—1826. М.: Высш. шк., 1991.
С. 285).
С. Броневский в книге «Новейшие географические и исторические известия о Кавказе» (М., 1825) писал: «Нравы сего колена [чеченцев] отличают его от всех кавказских
народов злобою, хищностию и свирепым бесстрашием в разбоях, составляющих главное ремесло чеченцев. По сей причине соседство их с российскими границами почиталось
весьма беспокойным, так что сношений с ними других не бывает, кроме воинских, или временной и притворной их покорности, которая при первом удобном случае опять
превращается в необузданную наглость» (с. 172—173). Об этом подробнее см.: Жогин Б. Г. «Злые» чеченцы и «робкие» грузины: Источники некоторых представлений Лермонтова
о народах Кавказа // М. Ю. Лермонтов: Проблемы изучения и преподавания. Ставрополь, 1994. С. 116—124.
Лермонтов, который без предубеждения относился к кавказским горцам, с интересом знакомился с их фольклором и бытом. Старик чеченец, провожая поэта через горы,
рассказывал ему предания о старине (см. «Измаил-Бей»). Был у Лермонтова и кунак-чеченец (см. «Валерик»). Все это помогало ему гораздо объективнее оценивать их
национальный характер и обычаи.
Чеченцы известны как храбрый и свободолюбивый, суровый и в то же время веселый, поэтический народ. Речь чеченцев красочна и метка, фольклор богат и выразителен. См.:
Семенов Н. Заметки о нравственных и умственных качествах чеченцев // Туземцы Северо-Восточного Кавказа. СПб., 1895. С. 73—102.
Лермонтов был знаком с художником-академиком, чеченцем по происхождению, П. З. Захаровым. Портрет Лермонтова 1834—1835 годов, по мнению некоторых исследователей,
сделан не Ф. О. Будкиным, а П. З. Захаровым. Высказывалось также предположение, что в судьбе Мцыри отразилась судьба П. З. Захарова (об этом см.: Шабаньянц Н. Ш.
Жизнь и творчество художника П. З. Захарова. Грозный: Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1963).
В произведениях Лермонтова чеченцы упоминаются неоднократно. См.: «Дары Терека», «Казачья колыбельная песня», «Валерик», «Кавказский пленник», «Джюлио», «Измаил-Бей»,
«Герой нашего времени». (В настоящей справке использованы материалы Б. С. Виноградова.).
...я лет десять стоял там в крепости с ротою, у Каменного Брода... – Каменный Брод — укрепление на реке Аксай (по-кумыкски Таш-Кичу), на
Кумыкской равнине, на самой границе с Чечней. В настоящее время на его месте расположен аул Аксай (Дагестан). Укрепление было построено в 1825 году русскими солдатами
по приказу генерала А. П. Ермолова и служило связующим пунктом между крепостью Внезапной и Амур-Ажди-Юртской переправой. В непосредственной близости от крепости
находились чеченские аулы (Каш-Гельды, Курчи-Аул, Науруз-Аул, Нуим-Берды, Ойсунгур), но земли принадлежали аксайским кумыкским князьям. Вот почему Максим Максимыч не
отрицал, что бывал и служил в Чечне, и Печорин спрашивал Бэлу, любит ли она чеченца.
Кумыки – тюркоязычный народ — коренное население Кумыкской равнины, на которой находилось укрепление Каменный Брод.
О Каменном Броде см.: Дурылин, с. 49—50; Андроников И. Л. Лермонтов в Грузии в 1837 году. Тбилиси: Заря Востока, 1958. С. 170; Цаллатов А. Аксай (или Таш-Кичу) //
Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. 16. Тифлис, 1893. С. 30; Семенов Н. Туземцы Северо-Восточного Кавказа. СПб., 1895. С. 228;
Виноградов Б. С. Горцы в романе Лермонтова «Герой нашего времени» // М. Ю. Лермонтов: Вопросы жизни и творчества. Орджоникидзе: Сев.-Осет. кн. изд-во, 1963. С.
54—57.
...бывало, на сто шагов отойдешь за вал... – «В Чечне, в Дагестане, в местах частых набегов, офицеры и солдаты, кроме самих себя и
неприятеля, никого не видят, не знают прогулки вне крепости, а если нужда велит идти за дровами или пищею и кормом, то выходят не иначе, как с вооруженными
проводниками» (Розен А. Е. Записки декабриста. СПб., 1907. С. 222).
...старые кавказцы любят поговорить... – В своем очерке «Кавказец» Лермонтов рассказывает, что, выйдя в отставку и неспешно пробираясь на
родину, кавказец «останавливается всегда на почтовых станциях, чтоб поболтать с проезжающими... Станционный смотритель слушает его с уважением, и только тут отставной
герой позволяет себе прихвастнуть...» (Т. 6. С. 350).
Черкесы – народ северо-западного Кавказа, родственный кабардинцам, шапсугам, абадзехам, натухайцам, темиргоевцам, бжедухам, беселенеевцам,
в настоящее время объединяемым общим понятием адыге или адыгейцы. Наименование черкесы происходит от слова «керкеты»; так назывались предки адыгейцев, известные еще
в античные времена. Эти народности живут сейчас на территории Адыгейской и Карачаево-Черкесской автономных областей, а также в Кабардино-Балкарии, входящих в состав
России. Адыгейский язык и очень близкий к нему кабардино-черкесский язык принадлежат к северо-западной, или абхазо-адыгской, группе кавказских языков. В XIX веке у
черкесов письменности не было, писаные законы заменял адат — обычное право горцев, исповедующих ислам.
Максим Максимыч, рассказывая о знакомстве Печорина с Бэлой, говорит о доме ее отца как о доме черкесском. И Печорин до встречи с Бэлой говорит Максим Максимычу: «Я
имел гораздо лучшее мнение о черкешенках». Однако эти замечания не позволяют судить о национальной принадлежности Бэлы и ее семьи.
Во времена Лермонтова черкесами часто называли вообще горцев.
О черкесах см.: Сталь К. Ф. Этнографический очерк черкесского народа // Кавказский сборник. Т. 21. Тифлис, 1900. С. 53—173; Очерки истории Адыгеи. Т. 1. Майкоп: Адыг.
кн. изд-во, 1957. 484 с. с ил.
Буза – хмельной напиток, который приготовляется из печеного хлеба или заваренной кипятком каши из просяной или кукурузной муки. Слово «буза»
балкарское (тюркского происхождения) и часто встречается у литераторов первой половины XIX века, писавших о Кавказе. В «Герое нашего времени» это слово упоминается
трижды. Подробнее см.: Дурылин, с. 59; Боровой А. Путь слова. М.: Сов. писатель, 1963. С. 261—266, а также: Лагунов Д. Буза... // Кубан. обл. вед. 1899. № 134.
...я тогда стоял в крепости за Тереком... – О крепости Каменный Брод см. ранее.
Терек – одна из крупных водных артерий Северного Кавказа, длиною около 600 км. Берет начало на Казбекских ледниках Главного Кавказского
хребта, до селения Коби течет на юго-восток, а затем резко поворачивает на север и параллельно Военно-Грузинской дороге устремляется к Дарьяльскому ущелью.
Вырвавшись из гор на равнины Предкавказья, Терек смиряет бурное течение и приобретает характер равнинной реки, но с быстрым течением и периодическими летними
паводками. Затем Терек круто поворачивает на северо-восток, у станицы Каргалинской разделяется на ряд рукавов. Ниже рукава Таловки Терек носит название Старого
Терека. Основная масса вод Терека вливается в Каспийское море.
Лермонтов впервые побывал на Тереке еще в детские годы, когда бабушка Е. А. Арсеньева возила его на Кавказ (1818, 1820 и 1825). Во время первой ссылки на Кавказ в
1837 году Лермонтов проехал по берегу Терека до Кизляра, где встречался с горцами, армянами, грузинами, гребенскими казаками, жившими здесь. Бывал поэт на Тереке и
во вторую ссылку, в 1840 году. Терек упоминается в стихотворениях: «Черкешенка», «Поэт», «Дары Терека», «Казачья колыбельная песня», «Тамара» и в поэмах: «Черкесы»,
«Кавказский пленник», «Джюлио». См.: Семенов Л. П. Лермонтов на Кавказе. Пятигорск: Орджоникидз. краев. изд-во, 1939. С. 79—80; он же. Лермонтов и фольклор Кавказа.
Пятигорск: Орджоникидз. краев. изд-во. 1941. С. 42—56; Попов А. В. Лермонтов на Тереке // Русские писатели в нашем крае. Грозный, 1958. С. 41—67; Андроников, с.
392—405.
...этому скоро пять лет. – Повесть «Бэла» охватывает события, отстоящие друг от друга на целое пятилетие. В рассказе Максима Максимыча дан
первый эскиз портрета Печорина, еще молодого двадцатипятилетнего офицера, только что приехавшего из Петербурга на Кавказ: «Он был такой тоненький, беленький, на нем
мундир был такой новенький...» Именно таким был Печорин, когда он увидел и полюбил Бэлу. По-видимому, первоначально Лермонтов предполагал, что в крепость у Каменного
Брода Печорин приехал из Петербурга. Но затем, в процессе работы над романом, Лермонтов внес существенное изменение в фабульный порядок «Героя нашего времени».
Заключительная часть записок Печорина в «Княжне Мери» свидетельствует о том, что в крепость Печорин попал за дуэль с Грушницким, не из Петербурга непосредственно, а с
Кавказских минеральных вод. Но характеристика молодого, не знающего Кавказа Печорина в тексте «Бэлы» осталась. Это — след первоначальной редакции «Бэлы», когда
повесть существовала отдельно, вне целостного контекста романа. Последняя встреча Максима Максимыча и автора путевых заметок во Владикавказе (в следующей повести
«Максим Максимыч»), следовательно, происходит через пять лет после дуэли Печорина с Грушницким и истории с похищением Бэлы, когда Печорину было уже около тридцати
лет. Развернутая характеристика тридцатилетнего Печорина и его портрет даны уже не Максимом Максимычем, а рассказчиком-офицером.
Однако следует учитывать справедливое замечание Э. Г. Герштейн, которая в своей книге «„Герой нашего времени” М. Ю. Лермонтова» писала: «Календарный подход к развитию
художественных образов не всегда приемлем... Перенесение времени действия несколько назад — постоянная и довольно невинная уловка Лермонтова. Это никого не
обманывало...» (С. 26—27).
Да, пожалуйста, зовите меня просто Максим Максимыч, и, пожалуйста, — к чему эта полная форма? приходите ко мне всегда в фуражке. – Многие
формальности, обязательные в николаевской армии, а тем более в гвардии, в условиях кавказской войны не соблюдались. С этим считался даже придирчивый ко всяким
формальностям Николай I. Когда в 1837 году во время своего кавказского путешествия он производил смотры, «ему, привыкшему во всем к педантической точности, на каждом
шагу бросались в глаза отступления от принятых форм и правил...» (Потто В. А. История 44-го Драгунского нижегородского полка. Т. 4. СПб., 1894. С. 83). Сам Лермонтов
во время службы на Кавказе также допускал многие вольности: не носил эполет, ходил в расстегнутом сюртуке и тому подобное, за что его осуждали более педантичные
сослуживцы (см.: Воспоминания. С. 586 и др.)
Его звали... Григорьем Александровичем Печориным... – Впервые в творчестве Лермонтова это имя и фамилия встречаются в неоконченном романе
«Княгиня Лиговская», над которым Лермонтов работал в 1836 году[6]. Ср. в драме «Арбенин» в том же году:
Как у Печориных движеньем томных глаз
Она кругом искала вас... (Т. 5. С. 543)
Дурылин, повторяя ошибку, допущенную в его более ранней книге «Как работал Лермонтов» (1934), в комментарии к роману проводил полное отождествление Печорина «Княгини
Лиговской» с Печориным «Героя нашего времени», хотя совпадение имени и фамилии еще не дает основания выдавать героев не связанных между собой произведений
(неопубликованного и опубликованного) за одно лицо. По мнению Дурылина, «Княгиня Лиговская» — пролог к «Герою нашего времени», где Лермонтов сообщает предысторию того
самого Печорина, который потом является главным действующим лицом романа «Герой нашего времени». Как утверждает Дурылин, «все основные точки жизни Печорина и все
характерные линии портрета «героя нашего времени» уже даны в „Княгине Лиговской”» (Дурылин, с. 9).
Углубляя эту методологическую ошибку, Дурылин в особой главе восстанавливает жизненный путь Печорина. Вряд ли закономерна и целесообразна попытка высчитать год
рождения Печорина (1808) на основании дат, упоминаемых в «Княгине Лиговской», и даты написания Лермонтовым Предисловия к «Журналу Печорина». Не следует уничтожать
грань между спецификой литературного произведения и реальной действительностью. Такого рода анализ не только гадателен, но и в основе своей порочен.
По мнению, Дурылина, «летом 1838 г. Печорин встречается вновь с Максимом Максимычем во Владикавказе, на пути в Персию. Вторая половина 1838 г. и начало 1839 г. падают
на дальнейший путь Печорина в Персию, на пребывание его там, на отъезд оттуда и смерть».
Предположим, что это так. Но из воспоминаний Н. М. Сатина мы знаем, что летом 1837 года в Пятигорске Лермонтов уже «писал свою «Княжну Мери» и зорко наблюдал за
встречающимися ему личностями» (Воспоминания. С. 250.). Работа над романом продолжалась в 1838-м и была закончена в начале 1839 года. Об этом упоминает и сам Дурылин.
Таким образом, получается, что Лермонтов писал о жизни и смерти Печорина за несколько месяцев и даже лет до описываемых событий.
Во второй главе статьи «Печорин» Дурылин предложил вниманию читателя таблицу «имущественных слоев» класса помещиков в 1835 году с подробным рассуждением о том, сколько
душ крепостных могло быть у Печорина и его родителей. Вряд ли этот материал что-либо дает для углубленного понимания образа Печорина.
Еще Белинский обратил внимание на семантическую параллельность фамилий Печорина и Онегина: «Печорин Лермонтова... это Онегин нашего времени, герой нашего времени.
Несходство их между собою гораздо меньше расстояния между Онегою и Печорою. Иногда в самом имени, которое истинный поэт дает своему герою, есть разумная необходимость,
хотя, может быть, и не видимая самим поэтом...» (Белинский. Т. 4. С. 265).
Возможно, что фамилия Печорин возникла в творческом сознании Лермонтова в какой-то связи с Владимиром Сергеевичем Печериным (1807—1885), который в 1831 году блестяще
окончил Московский университет, затем провел два года в Германии, Швейцарии и Италии, в 1835 году возвратился в Петербург и мог в это время встречаться если не с
Лермонтовым, то с его другом С. А. Раевским. В августе 1835 года Печерин был назначен преподавателем в Московский университет; его лекции по греческой филологии имели
большой успех; 31 декабря 1835 года он был утвержден в звании исправляющего должность экстраординарного профессора. Но в июне 1836 года талантливый ученый навсегда
покинул самодержавную Россию, чтобы примкнуть к революционному движению в Западной Европе. О В. С. Печерине см.: Бобров Е. А. В. С. Печерин и М. Ю. Лермонтов //
Бобров Е. А. Из истории русской литературы XVIII и XIX столетий. СПб., 1910. С. 80—86; Гершензон М. О. В. С. Печерин // Гершензон М. О. История Молодой России. М.;
Пг.: ГИЗ, 1929. С. 79—181; Печерин В. С. Замогильные записки. Калинин: Мир, 1932; Сабуров А. Из биографии В. С. Печерина // Лит. наследство. 1941. Т. 41—42. С.
471—482; Кулешов В. И. Судьба неизданного романа // Вопр. лит. 1962. № 12. С. 236.
Типичность образа Печорина не исключает вопроса о прототипах. В качестве последних в литературе о Лермонтове рассматривались личности А. П. Шувалова, Ал. Н. Карамзина
и многих других. В последнее время прототипами Печорина называли Н. И. Поливанова (Махлевич Я. Л. Кавказский вид // Панорама искусств. М., 1981. Вып. 4. С. 247—278);
В. С. Печерина (Корнеев А. Печорин и Печерин // Альманах библиофила. М.: Книга, 1987. Вып. 22. С. 81—91); К. Ф. Опочинина (Кистенева С. К портрету «героя ушедшего
времени» // Рус. мысль. (Париж). 1995. 30 марта — 5 апр. № 4071. С. 17—18. Многочисленность этих предположений еще раз подтверждает собирательность этого образа.
...только немножко странен... Да-с, с большими был странностями... – Печорин — странный человек. Странным человеком называют его и княжна
Мери, и доктор Вернер. Отмечает странность в облике Печорина и офицер-повествователь. Наконец, сам Печорин не раз признается в своих странностях.
По справедливому замечанию Б. Т. Удодова, «эпитет повторяется применительно к Печорину так часто, что постепенно перестает быть только одним из
эмоционально-экспрессивных средств языка автора и героев, приобретает оттенок терминологически-определительный. За ним встает склад характера, тип человека». И
Белинский, очевидно, это имел в виду, когда писал: «...вспомните Печорина — этого странного человека, который, с одной стороны, томится жизнию, презирает и ее, и
самого себя, не верит ни в нее, ни в самого себя... а с другой — гонится за жизнию, жадно ловит ее впечатления, безумно упивается ее обаяниями...» (Белинский. Т. 4.
С. 526).
Если это действительно особый тип «странного человека», не было ли у него своих «странных» предшественников в жизни и литературе?
Б. Т. Удодов прослеживает в своей работе эволюцию образа «странного человека» в русской литературе и показывает, что эта эволюция самым тесным образом связана с
важной проблемой положительного героя. В условиях обостренных противоречий русской действительности первой половины XIX века положительный герой по необходимости
должен был тяготеть к романтической исключительности и «странности», чем нередко затруднялось его реалистическое, к тому же подцензурное изображение.
В этом отношении большой интерес представляет отрывок из записной книжки К. Н. Батюшкова, относящийся еще к 1817 году: «Недавно я имел случай познакомиться с странным
человеком, каких много... Ему около тридцати лет. Он то здоров, то болен, при смерти болен. Сегодня беспечен, ветрен, как дитя; посмотришь завтра — ударился в мысли,
в религию и стал мрачнее инока. Лицо у него точно доброе, как сердце, но столь же непостоянное» (Батюшков К. Н. Соч. М.: Гослитиздат, 1955. С. 401). Подводя итоги
описанию героя, Батюшков констатирует: «В нем два человека... оба человека живут в одном теле. Как это? Не знаю» (там же, с. 401—402). Все это напоминает признание
Печорина: «Во мне два человека...» (с. 168) и слова автора из Предисловия к «Журналу Печорина»: «„Да это злая ирония!” — скажут они. — Не знаю».
Следует отметить, что Лермонтов не мог знать заметок Батюшкова. Оба писателя пришли к близким формулировкам, вникая в психологию современника.
Образ Печорина, который Лермонтов вынашивал в течение всей своей жизни, явился закономерным итогом и дальнейшим развитием типа «странного человека» в русской
литературе и вместе с тем одним из наиболее органичных для творчества Лермонтова образов. Об этом подробнее см.: Удодов Б. Т. «Герой нашего времени». М.: Просвещение,
1989. С. 8—20; ср. вступительную статью, с. 10—11.
...есть, право, этакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи! – Эти слова Максима
Максимыча получают дальнейшее развитие в заключительной повести «Героя нашего времени» — «Фаталисте». Таким образом, тема предопределения намечается уже в самом
начале романа.
Азамат – тюркоязычное имя и, как установлено, имеет определенное значение: молодец, удалец, юноша (лет двадцати). У чеченцев (вайнахские
языки) слово «азат», «азет» бытовало со значением — освободившийся, вольный.
В советском литературоведении установился взгляд на Азамата как на тип вольнолюбивого горца, пылкого, неуравновешенного, необузданного. Азамат — отчаянная голова, у
него на уме удальство и молодечество. Это юнец, которому не терпится стать взрослым, цельная натура, «дитя природы» (см.: Андреев-Кривич С. А. Лермонтов: Вопр.
творчества и биогр. М.: Изд-во АН СССР, 1954. С. 75—78; Михайлова, с. 230—234).
Дурылин выдвинул мнение, что семья Бэлы, к которой принадлежит Азамат, чеченская (Дурылин, с. 49—54). Б. С. Виноградов полагает и приводит доказательства в пользу
того, что семья Бэлы и Азамата кумыцкая (Виноградов Б. С. Горцы в романе Лермонтова «Герой нашего времени» // М. Ю. Лермонтов: Вопр. жизни и творчества. Орджоникидзе:
Сев.-Осет. кн. изд-во, 1963. С. 55—57).
Кунак – (тюркское «конак») — друг, приятель. Куначество — взаимное хлебосольство; обычай, налагавший на обе стороны некоторые взаимные
нравственные обязанности: взаимовыручку, верность.
Судя по тексту стихотворения «Валерик», у Лермонтова был кунак из числа мирных горцев.
Я имел гораздо лучшее мнение о черкешенках... – После поэмы Пушкина «Кавказский пленник» русской молодежи кружила головы мечта о «деве
гор». У всех была в памяти знаменитая гравюра С. Галактионова в «Полярной звезде» (1824): пленник и перед ним черкешенка на фоне горного пейзажа, над которым
возвышается двуглавый Эльбрус. «Кавказец», герой очерка Лермонтова, еще на школьной скамье, упивавшийся поэмой Пушкина, попав на Кавказ, «одно время мечтал о пленной
черкешенке», а потом должен был махнуть рукою на «эту почти несбыточную мечту» (Т. 6. С. 349).
Образ черкешенки появляется еще в отроческом стихотворении Лермонтова «Черкешенка».
О черкешенках в тридцатых годах XIX века ходило много рассказов — и правдивых, и легендарных. В повести Марлинского «Вечер на Кавказских водах в 1824 году» один из
собеседников говорит, что самая красивая кавказская татарка «по рабским привычкам своим достойна только закуривать трубки», «черкешенки вовсе иное дело, да мы
осуждены любоваться ими как недоступными вершинами Кавказа и видим их едва ль не реже солнечного затмения». Белинский в 1837 году пишет из Пятигорска Бакунину,
подтрунивая над своим любопытством: «Черкесов вижу много, но черкешенки — увы! — еще ни одной не видел... Ох, черкешенки!.. Чтоб видеть их, надо ехать в аул, верст за
30... А все-таки хочется посмотреть чернооких черкешенок!» (Белинский. Т. 11. С. 138).
Ф. Ф. Торнау, имевший возможность хорошо познакомиться с черкесским бытом той эпохи, рассказывает: «...у черкесов не скрывают девушек, они не носят покрывала, бывают
в мужском обществе, пляшут с молодыми людьми и ходят свободно по гостям. У черкесов редко выдают девушку против ее воли... Девушки показываются в мужском обществе с
открытым лицом» (Торнау Ф. Ф. Воспоминания кавказского офицера 1835, 36, 37 и 38 годов. Ч. 2. М., 1864. С. 68 и 91). О черкесах см. на с. 215—216.
Кунацкая – от тюркского «конак», т. е. гость, друг, приятель. Кунацкая могла быть двух видов: отдельная сакля, предназначенная для приема гостей, и часть
общего жилья, мужская половина, где обитал хозяин дома и все мужчины вместе с гостями. В кавказоведческой и художественной литературе прошлого века под кунацкой
обычно понималась особая комната, гостиная. Так употребляет это слово и Лермонтов. Кунацкая иногда превращалась в своеобразный клуб молодых мужчин. «Сидят и спят
в ней на земле, на камышовых циновках, на коврах, на подушках и тюфяках, составляющих у гостеприимного черкеса самую значительную и самую роскошную часть его домашних
принадлежностей. В кунацкой всегда есть, кроме того, медный кувшин с тазом для умыванья... Кушанья подают на низких круглых столиках» (Торнау Ф. Ф. Воспоминания
кавказского офицера 1835, 36, 37 и 38 годов. Ч. 1. М., 1864. С. 80).
О куначестве и кунацкой см.: Кокиев С. Записки о быте осетин // Сборник материалов по этнографии, издаваемый при Дашковском этнографическом музее. М., 1885. Вып. 1.
С. 78—79; Косвен М. О. Этнография и история Кавказа. М: Изд-во вост. лит., 1961. С. 126—129.
— Как же у них празднуют свадьбу? – Первые фразы рассказа Максима Максимыча о свадьбе старшей сестры Бэлы, как полагает Б. С. Виноградов,
описывают кумыкскую свадьбу вообще, а затем идет речь о свадьбе у князя-кунака. Дурылин считал, что Лермонтов допустил ошибку, так как, по его мнению, у горцев
свадьба не справляется в доме невесты (Дурылин, с. 59). Между тем Н. Семенов в книге «Туземцы Северо-Восточного Кавказа» (СПб., 1895. С. 260—305) описывает кумыкские
свадебные обряды в доме невесты, которые совпадают с рассказом Максима Максимыча.
Джигитовка – упражнения вооруженного всадника на быстро скачущей лошади, требующие смелости и ловкости.
...какой-нибудь оборвыш, засаленный, на скверной, хромой лошаденке, ломается, паясничает, смешит честную компанию... – На кумыкской свадьбе
было обязательно участие шута — ойуечу. См.: Головинский П. А. Кумыки: Их игры, песни и обычаи // Сборник сведений о Терской области. Владикавказ, 1878. Вып. 1. С.
290—297.
...вроде нашей балалайки. – Такие инструменты есть у многих горских народов, например, трехструнный щипковый инструмент дечик-пондур,
встречающийся в Чечне и Ингушетии и по конструкции близкий к дагестанскому агач-кумузу. См.: Атлас музыкальных инструментов народов СССР / Сост.: К. Вертков, Г.
Благодатов и Э. Язовицкая. М.: Музгиз, 1963. С. 110.
Академик В. В. Виноградов в исследовании «Стиль прозы Лермонтова» обратил внимание на то, что Максим Максимыч иногда «как бы затрудняется припомнить и выговорить
соответствующее кавказское слово и обозначает предмет «по-нашему», т. е. подыскивает соответствующее русское название». Для речи Максима Максимыча также характерны
выражения и образы из круга его военной профессиональной терминологии. См.: Виноградов В. В. Стиль прозы Лермонтова // Лит. наследство. 1941. Т. 43—44. С. 570—572.
Девки и молодые ребята становятся в две шеренги, одна против другой, хлопают в ладоши и поют. Вот выходит одна девка и один мужчина на середину и начинают
говорить друг другу стихи нараспев, что попало, а остальные подхватывают хором. – «Что попало» надо понимать как импровизацию. Максим Максимыч
описывает песню-игру, характерную для кумыкской свадьбы. Называется эта песня-игра сарын. Исполняя сарын, девушка и молодой человек обмениваются комплиментами. Нечто
вроде комплимента в духе сарын пропела Печорину Бэла. Она как бы втягивала русского офицера в кумыкскую свадебную игру. Ее комплимент не носил любовного характера,
но в какой-то степени намекал на чувства девушки. Адаты[7] у адыгейских народов предписывали дочери хозяина по его указанию
приветствовать гостя. Можно было приветствовать и стихами, умение импровизировать очень ценилось в девушках. У кумыков горянка не могла говорить с посторонним мужчиной,
но на свадьбе — иное дело. Лермонтов воспользовался свадебной обрядностью, чтобы создать эпизод первой встречи Печорина с Бэлой. См.: Головинский П. А. Кумыки: Их
игры, песни и обычаи // Сборник сведений о Терской области. Вып. 1. Владикавказ, 1878. С. 290—297; Виноградов Б. С. Горцы в романе Лермонтова «Герой нашего времени»
// М. Ю. Лермонтов: Вопр. жизни и творчества. Орджоникидзе: Сев.-Осет. кн. изд-во, 1963. С. 56—57.
Ее зовут Бэлою... – Этимология имени Бэла не установлена. В «Справочнике личных имен народов РСФСР» (2-е изд., перераб. и доп. М.: Рус.
яз., 1979) такого имени у кавказских народов не зарегистрировано. Среди традиционных мусульманских женских имен такого имени нет. В настоящее время это имя на
Северном Кавказе встречается довольно часто и, возможно, подсказано романом Лермонтова.
Печорин и Максим Максимыч говорят о семье Бэлы как о семье черкесской, а Бэлу называют черкешенкой. Но черкесы обитали в западной части Северного Кавказа, на левом
берегу Кубани, действие же повести «Бэла» происходит в укреплении Таш-Кичу (Каменный Брод) и в окрестностях этого укрепления на Кумыкской плоскости, на самой границе
с Чечней и в непосредственной близости к чеченским аулам.
Дурылин обратил внимание на то, что географическое указание в рассказе Максима Максимыча противоречит его же этнографическим указаниям. Противоречие разрешается тем,
что под черкесами в обычном словоупотреблении в 1820—1830-х годах зачастую разумелись все вообще горцы Северного Кавказа, как под татарами подразумевались все вообще
кавказцы мусульманского вероисповедания. Поэтому Дурылин предположил, что семья Бэлы чеченская, хотя отметил существенное обстоятельство, подрывающее справедливость
такого предположения. Максим Максимыч именует отца Бэлы князем, а сама Бэла с гордостью говорит: «...я княжеская дочь». Между тем известно, что у чеченцев княжеских
родов не было, у них было что-то вроде дворянства; чеченцы представляли собой первобытную демократию с остатками родового быта. Б. С. Виноградов полагает, что отец
Бэлы был кумыкский князь, а семья Бэлы кумыкская. Кумыки с XVI века были экономически и дипломатически связаны с Россией. Русские цари стояли на страже интересов
кумыкских феодалов. В XVI веке кумыкские князья находились под контролем русской военной администрации. Об этом см.: Виноградов Б. С. Горцы в романе Лермонтова «Герой
нашего времени» // М. Ю. Лермонтов: Вопр. жизни и творчества. Орджоникидзе: Сев.-Осет. кн. изд-во, 1963. С. 55—56.
М. Н. Лонгинов, а за ним и П. А. Висковатов считали, что в основу рассказа о Бэле положено истинное происшествие, случившееся с родственником Лермонтова Акимом
Акимовичем Хастатовым, у которого в Шелкозаводске жила «татарка» под этим именем (Рус. старина. 1873. Т. 7. Кн. 3. С. 391; Висковатов, с. 263).
А. В. Попов полагает, что прототипом Бэлы в известной мере послужила жена сослуживца Лермонтова по Нижегородскому драгунскому полку Г. И. Нечволодова — 22-летняя
Екатерина Григорьевна, происходившая из племени абадзехов (Попов А. В. М. Ю. Лермонтов в первой ссылке. Ставрополь, 1949. С. 58—61). Существует мнение, что Бэла
кабардинка, дочь кабардинского князя. Именно поэтому Максим Максимыч и Печорин называют ее черкешенкой. Кабарда отстояла от Каменного Брода дальше, чем кумыкские
аулы, но поездка в Кабарду на свадьбу из Каменного Брода была вполне возможной. Вопрос о национальной принадлежности Бэлы окончательно не разрешен.
Увлечение русского офицера девушкой-горянкой в условиях кавказской войны было довольно частым явлением. О любви приятеля Лермонтова князя А. Н. Долгорукова к
черкешенке Гуаше рассказал в своем очерке «Гуаша» убийца поэта Н. С. Мартынов (Изв. Тамб. учен. архивной комис. Вып. 17. Материалы для истории Тамб., Пенз. и Сарат.
дворянства. Т. 1. Ч. 2. Тамбов, 1904. С. 111—118). См. также рассказ Ф. Ф. Торнау в «Воспоминаниях кавказского офицера 1835, 36, 37 и 38 годов» о том, как он нашел в
плену у горцев свою Бэлу, черкешенку Аслан-Коз (Ч. 2. М., 1864. С. 130—131).
Дурылин указал на то, что «история Бэлы и Печорина, составляя одно из звеньев разработки литературной темы любви культурного европейца к дикарке, в то же время
реалистически правдиво отражает явление, порожденное русско-кавказской действительностью 1820—1830-х годов».
...узнал моего старого знакомца Казбича. – Белинский писал: «Характеры Азамата и Казбича — это такие типы, которые будут равно понятны и
англичанину, и немцу, и французу, как понятны они русскому. Вот что называется рисовать фигуры во весь рост, с национальною физиономиею и в национальном костюме!..»
(Белинский. Т. 4. С. 220). Анализ образа Казбича см.: Михайлова, с. 227—234.
Поиски прототипа Казбича привели Н. О. Лернера, Л. П. Семенова, А. В. Попова к известному в свое время джигиту, лихому наезднику и предводителю шапсугов Кизилбечу
Шертулокову (о нем см. на с. 252). Однако, по справедливому убеждению Б. С. Виноградова, об историческом Кизбиче, или Кизилбече, речь идет только в заключительных
строках повести «Бэла», где на вопрос, что сделалось с Казбичем, Максим Максимыч отвечает: «...не знаю... Слышал, что на правом фланге у шапсугов есть какой-то
Казбич, удалец... да вряд ли это тот самый!» Таким образом, в тексте Лермонтова образу Казбича, убийцы Бэлы, противопоставляется какой-то другой Казбич, удалец,
реальное историческое лицо. Б. С. Виноградов показал, что Казбич в повести «Бэла» и внешне совсем не походит на Кизилбеча: Казбич «маленький, сухой, широкоплечий»;
Кизилбеч, как рисует его портрет адыгейский писатель Ахметуков, «...был громадного роста, с добрыми голубыми глазами, с железной грудью, большой головой, довольно
приятный на вид мужчина...» (см.: Виноградов Б. С. Горцы в романе Лермонтова «Герой нашего времени» // М. Ю. Лермонтов: Вопр. жизни и творчества. Орджоникидзе:
Сев.-Осет. кн. изд-во, 1963. С. 59—62).
...не то, чтоб мирно́й, не то, чтоб не мирно́й. – Современник Лермонтова Г. И. Филипсон говорит, что мирные, «как известно, были хуже
немирных» (Рус. архив. 1864. Т. 1. С. 375). Молодой Лев Толстой, приехав на Линию лет через пятнадцать, застал там «мирные, но еще беспокойные аулы» («Казаки», гл.
4).
Сколько-нибудь значительной разницы между мирными и немирными горцами не было. Присяга на верность русскому правительству давалась не по доброй воле, и мирные горцы
все время поддерживали самую тесную бытовую связь с немирными аулами. Об этом подробнее см.: Ливенцов М. А. Воспоминания о службе на Кавказе в начале 1840-х годов
// Рус. обозрение. 1894. Кн. 8. С. 717; Розен А. Е. Записки декабриста. СПб., 1907. С. 261—262.
...никогда не торговался: что запросит, давай — хоть зарежь, не уступит. – Казбич продает баранов, но чуждается торгашества. Он больше
воин, чем купец; продает дешево, значит, не гонится за наживой. Историк кавказской войны Н. Дубровин сообщал: «Чеченцы торговлей занимались мало и считали это занятие
постыдным. В краю, где война была не что иное, как разбой, а торговля — воровство, разбойник в мнении общества был гораздо почтеннее купца, потому что добыча первого
покупалась удальством, трудами и опасностями, а второго — одною ловкостью в обмане. Если чеченцу и случалось что-нибудь продавать, то он продавал без уступки».
Тот же историк писал: «Горец знал, что если он приведет на базар в укрепление животное для продажи, то его оставят на три дня на испытании; не окажется ли оно
ворованным. Если в промежуток этого времени действительный хозяин не являлся, тогда деньги, следовавшие продавцу, отдавались ему покупателем, а в противном случае
животное возвращалось настоящему его хозяину» (Дубровин Н. История войны и владычества русских на Кавказе. Т. 1. Кн. 1. СПб., 1871. С. 216—217 и 382).
...он любит таскаться за Кубань с абреками... – Абреки — абазинское слово, черкесы звали их хаджеретами. Абрек — на Северном Кавказе и в
Дагестане в период кавказской войны — горец, по каким-либо причинам скрывавшийся от своих и вынужденный заниматься набегами. Абреком именовался также «отчаянный
горец, давший срочный обет или зарок не щадить головы своей и драться неистово; также беглец, приставший для грабежа к первой шайке» (Даль В. Толковый словарь живого
великорусского языка: В 4-х т. Т. 1. М.: ГИС, 1955. С. 2; ср.: Толстой Н. Н. Охота на Кавказе. М., 1922. С. 98—99). Адыгейский писатель Ю. Кази-Бек (Ахметуков)
объяснял: «Абреком назывался тот джигит, который дал клятву не сидеть дома и делать как можно больше вреда предмету своей мести» (см.: Кази-Бек Юрий (Ахметуков).
Черкесские рассказы. Т. 1. М., 1896. С. 185—203; ср.: Дурылин, с. 60—66). В литературе прошлого абрека часто неверно отождествляли с разбойником. Во время кавказской
войны отряды абреков боролись против царских колонизаторов. Абреки прорывались через границу, «жгли русские дома, угоняли скот и лошадей, убивали каждого встречного,
захватывали детей и женщин. Наши пограничные казаки, одетые и вооруженные совершенно сходно с горцами и не менее их привычные к войне, день и ночь караулили границу
и, в свою очередь, столкнувшись с абреками, когда сила брала, истребляли их до последнего человека... Для десяти или двадцати абреков ничего не значило в долгую
осеннюю ночь переправиться тайком через Кубань, проскакать за Ставрополь, напасть там на деревню или на проезжающих и, перед рассветом, вернуться с добычей за реку»
(Торнау Ф. Ф. Воспоминания кавказского офицера 1835, 36, 37 и 38 годов. Ч. 2. М., 1864. С. 6—8).
Как раз в интересующее нас время абречество «распространилось за Кубанью, когда бежавшие кабардинцы, озлобленные покорением их земли, дали обет, пока живы, мстить
русским. Скоро из разных мест молодые люди стали уходить к неприятелю, провозглашая себя абреками, без другого повода кроме удальства и страсти к похождениям.
Гораздо меньшее число делались абреками, имея действительную причину жаловаться на русских. Нельзя не признаться, что и в таких не имелось недостатка» (там же,
с. 9).
Ф. Ф. Торнау приводит ряд случаев административного произвола и судебной несправедливости русских властей, доводивших горцев до ухода в абреки.
В свои юные годы, еще не зная кавказской жизни, веря романтическому изображению абречества в «Аммалат-беке» Марлинского, Лермонтов изобразил невозможного в бытовом
отношении Хаджи-абрека (Т. 3. С. 267—280); недаром эту поэму с исторической стороны осуждал знаток Кавказа А. Л. Зиссерман (Рус. архив. 1885. Т. 2. С. 78, 570).
Кабарда (Большая и Малая) расположена в предгорьях и прилегающих к ним степях центральной части северных склонов Главного Кавказского хребта
в бассейне Терека по рекам Малке, Баксану, Чегему, Череку. (В верховьях этих рек, в горах — Балкария.) Кабарда занимает в творчестве Лермонтова значительное место.
См. примечания к слову «кабардинцы» ранее. Кабарда славилась своим коневодством, в особенности верховыми лошадьми. В настоящее время Кабарда
входит в состав Кабардино-Балкарии; центр — г. Нальчик. По Всесоюзной переписи 1970 года насчитывалось 280 000 кабардинцев. О кабардинцах см.: Лопатинский Л. Заметки
о народе Адыге вообще и кабардинцах в частности, с этнографической картой Кабарды // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. 1891. Вып. 12. Отд.
1. С. 1—10.
Как теперь гляжу на эту лошадь: вороная, как смоль, ноги — струнки, и глаза не хуже, чем у Бэлы... – Рассказывая о коне Казбича, Максим
Максимыч сравнивает скакуна с Бэлой. Так в повести появляется традиционный восточный мотив: сопоставление лошади и женщины. Его находят у Анакреона, у многих поэтов
Ближнего Востока. Распространен он и в творчестве горцев Кавказа, в частности в фольклоре аксайских кумыков. Конь в жизни кавказского джигита играл огромную роль. Без
коня не было джигита. Горский фольклор знает легендарных коней. Не было ничего обидного для красавицы горянки, если красоту лошади сравнивали с красотой девушки, или
наоборот.
Позднее в русской литературе сопоставление женщин и лошадей появляется у многих писателей и поэтов, например, у Тургенева в «Конце Чертопханова» и у Фета в
стихотворном послании 1864 года к И. С. Тургеневу («Тебя искал мой стих по всем концам земли...»):
Взгляни в Степановке на Фатьму-кобылицу...
...Едва ль где женщину ей равную найдешь...
(Фет А. А. Полн. собр. стихотворений. Л.: Сов. писатель, 1937. С. 416 — Б-ка поэта. Большая сер.). Но ближе к Лермонтову Л. Н. Толстой, как известно, назвавший лошадь
Фру-Фру («Анна Каренина») именем героини популярной пьесы Мейлака и Галеви «Frou-frou» (1870) и заставивший Вронского испытать к ней страсть не меньшую, чем Азамат
испытал к Карагезу. Об этом подробнее см.: Виноградов Б. С. Бэла и песня Казбича // Науч. докл. высш. школы. Филол. науки. 1963. № 2. С. 188—191.
М. Врубель создал рисунок «Казбич и Азамат» в двух вариантах. «В обоих вариантах центром рисунка являются не люди, а конь Карагез. Он у Врубеля прекрасен: статен,
благороден и горд. Своей красотой конь подавляет людей... и это так и нужно по Лермонтову: они оба влюблены в коня, их мысли, чувства и страсти прикованы к нему,
более того — их жизни связаны с этим конем» (Дурылин С. Н. Врубель и Лермонтов // Лит. наследство. 1948. Т. 45—46. С. 560; об этом также см.: Галкин А. Об одном
символе в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» // Вопр. лит. 1991. № 7. С. 114—120).
Уж такая разбойничья лошадь!.. – По словам Ф. Ф. Торнау, горец «свою лошадь бережет пуще глаза. Она выезжена на уздечке, которой совершенно
повинуется; она спокойна, смирна, привыкает к ездоку как собака, идет на его зов и переносит неимоверные труды» (Торнау Ф. Ф. Воспоминания кавказского офицера 1835,
36, 37 и 38 годов. Ч. 2. М., 1864. С. 33).
Печорин гордится своим «искусством в верховой езде на кавказский лад»; один из его коней черкесской породы так и зовется Черкес. Лермонтов сам был кавалеристом и
любил лошадей. Конь и всадник встречаются очень часто и в его поэзии, и в его картинах и рисунках (см.: Семенов Л. П. Лермонтов и Лев Толстой. М., 1914. С. 200—210).
Между прочим, мы находим у Лермонтова упоминание лошадей двух кабардинских пород — Трам («Измаил-Бей», ч. 3, строфа 21) и Лоов (Письмо к А. И. Бибикову. Т. 6. С.
457—458), пород редких и дорогих, о которых мог знать и судить только знаток лошадей. Трамовы и Лоовы — владельцы крупных табунов в Кабарде.
Недаром на нем эта кольчуга... – Опытный Максим Максимыч знал, что черкес надевает кольчугу лишь тогда, когда предстоит серьезное
столкновение. Один офицер рассказывал Г. И. Филипсону: «В начале двадцатых годов какие они там задавали бои! Выезжало иногда до пяти тысяч всадников, из которых очень
много было панцырников» (Рус. архив. 1883. Т. 3. С. 169). Такое вооружение стоило дорого и не каждому было доступно. Казбич не был бедняком, судя хотя бы по тому,
что надеялся посватать княжескую дочь. Панцири у черкесов носили только наездники высшего сословия. Ср. у Лермонтова в «Дарах Терека»:
Он в кольчуге драгоценной,
В налокотниках стальных...
...присел я у забора и стал прислушиваться... – Подслушивание разговоров — прием частый в романе, вызванный тем, что повествование всюду
ведется от первого лица. (Об этом см.: Эйхенбаум Б. М. Лермонтов: Опыт ист.-лит. характеристики. Л.: ГИЗ, 1924. С. 153.) Лермонтов пользовался «приемом подслушивания»
и раньше. В «Княгине Лиговской» Красинский совершенно случайно оказывается в ресторации как раз тогда, когда оскорбивший его Печорин рассказывает приятелям о своем
столкновении с ним (Т. 6. С. 133—135).
Гяур – этим словом (от арабск. kiafir — неверный, язычник) мусульмане презрительно называют немусульман, в том числе и русских.
Карагач – Ulmuspumila, красный берест, вид ильмы, дерево.
Карагёз – на тюркских языках означает черный глаз, черноглазый, черноокий.
Валлах (арабск.) – аллах, бог; восклицание: «О, боже»!
Гурда – так назывались на Кавказе самые лучшие старинные сабельные полосы с разнообразными клеймами (см.: Ленц Э. Несколько слов о старинном холодном оружии // Альманах армии и флота на 1902 г. С. 114). «Рассказывают, что один из туземных мастеров, достигший чрезвычайным трудом и усилиями выделки этих чудных клинков, встретил себе соперника в лице другого мастера, старавшегося всячески подорвать его репутацию. Произошла ссора, и первый, желая доказать преимущество своего железа, с криком «гурда!» (смотри) одним ударом перерубил пополам и клинок, и самого соперника. Имя этого мастера изгладилось из народной памяти, но его восклицание «гурда!» так и осталось за его клинками. Знатоки различают три рода гурды: это ассель (старая гурда), гурда-мажар и гурда-эль-мурза, отличающиеся друг от друга различными клеймами» (Потто В. А. Несколько слов о холодном оружии // Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях. Т. 4. Вып. 4. Тифлис, 1888. С. 504). Лев Толстой в повести «Казаки» (гл. 14) ошибочно полагал, что «гурда» — имя мастера.
«Шашка, настоящая гурда» упоминается Лермонтовым в очерке «Кавказец» (Т. 6. С. 349).
Отличный знаток кавказского оружия, Лермонтов знал имя известного мастера холодного оружия Геурга, который в тридцатых годах XIX века жил в Тифлисе. Возможно, что
Лермонтов знал его лично. Имя Геурга встречается в черновике стихотворения «Поэт»:
В серебряных ножнах блистает мой кинжал,
Геурга старого изделье...
и в наброске Лермонтова «Я в Тифлисе у Петр. Г. — ученый татарин»: «...я снял с мертвого кинжал для доказательства... несем его к Геургу. Он говорит, что делал его
русскому офицеру» (Т. 6. С. 383).
По свидетельству современников, Геург изготовлял сабельные клинки и кинжалы превосходного булата и отличной закалки, не уступающие даже знаменитым дамасским клинкам.
Закалку клинков он производил так: у кузнеца наготове стояли всадники. Разогретое в горне лезвие Геург передавал всаднику, и тот во весь опор мчался до назначенного
места, подняв клинок против ветра и рассекая им воздух. Такое воздушное охлаждение придавало стали особую прочность. См.: Ениколопов И. К. Лермонтов на Кавказе.
Тбилиси: Заря Востока, 1940. С. 30.
...шашка... сама в тело вопьется... – Черта эпического гиперболизма. В «Слове о полку Игореве» струны Бояна «сами князем славу рокотаху».
Хочешь, я украду для тебя мою сестру? – И. И. Замотин отмечал: «Дикий Азамат, «головорез», разбойник от рождения, готовый обокрасть своего
собственного отца и продать родную сестру, поражает, однако, нас силою, цельностью и искренностью своего чувства. Он, как Мцыри, живет одной, но пламенной страстью
— хочет обладать конем Казбича — и для этого все ставит на карту. За эту страстность, за непреклонную волю, за беззаветную удаль мы готовы простить Азамату многое,
даже его безнравственную и преступную, с нашей точки зрения, хищность, которую ему, выросшему в условиях первобытной дикости, даже и нельзя ставить в вину»
(Замотин И. И. М. Ю. Лермонтов: Мотивы идеального строительства жизни. Варшава, 1914. С. 141).
Для правильного понимания характера и поведения Азамата нужно иметь в виду, что русская администрация на Кавказе действовала не только мечом и огнем, но и подкупом,
развращая нравы горцев. Азамат, готовый продать родную сестру, не был ни злодеем, ни продажным негодяем; он действовал не из жажды обогащения, а под влиянием
страстного желания обладать конем Казбича. Оба горца — Азамат и Казбич — правдиво воссозданы Лермонтовым, в них нет уже фальши неистового романтизма, о чем при
появлении «Бэлы» в «Отечественных записках» со всей определенностью заявил Белинский (Белинский. Т. 3. С. 188).
Как она пляшет! как поет! а вышивает золотом, чудо! – Предлагая Казбичу украсть для него сестру, Азамат относится к ней как к вещи, которую
он обменивает на коня, и в этом торге Азамат расхваливает ее достоинства, ценившиеся горцами: ее красоту, способность к танцам, мастерство в рукоделии. (Шитье
золотом особенно было развито и славилось у кабардинцев.) Такое отношение к сестре характерно для отношения к женщине у мусульман. Мужчина на мусульманском Востоке
в старину считался собственником женщины. Весь труд по хозяйству лежал на ней. «Черкесский дворянин проводит жизнь на лошади и воровских набегах, в делах с
неприятелем или в разъездах по гостям. Дома у себя он проводит весь день лежа в кунацкой, открытой для каждого прохожего, чистит оружие, поправляет конскую сбрую, а
чаще всего ничего не делает... Днем он видится очень редко со своим семейством и идет к жене только вечером. На ней лежит обязанность смотреть за хозяйством; она ткет
с помощью женской прислуги сукно, холст и одевает детей и мужа с ног до головы» (Торнау Ф. Ф. Воспоминания кавказского офицера 1835, 36, 37 и 38 годов. Ч. 2. М.,
1864. С. 90).
«Черкешенки отличаются замечательным искусством в женских работах; скорее изорвется материя, чем шов, сделанный их рукой; серебряный галун их работы неподражаем...
Умение хорошо работать считается после красоты первым достоинством для девушки и лучшею приманкою для женихов» (там же, с. 90—91).
Искусство пляски считалось на Кавказе одним из главных достоинств молодой женщины. Вот почему так детально описывается в поэме «Демон» эпизод с пляской Тамары
(Т. 4. С. 187). Ср.: Дурылин, с. 184.
Падишах – «великий царь», титул турецких султанов.
Долго, долго молчал Казбич; наконец, вместо ответа, он затянул старинную песню вполголоса: «Много красавиц в ауле у нас...» – Молчание
Казбича полно глубокого значения. Он любит Бэлу, Азамат это понял. И в суровой душе Казбича происходит борьба, иначе он ответил бы сразу отказом, не задумываясь.
Волнение, которое им владеет, наконец разрешается не простыми словами, а песней. У Лермонтова герои его произведения часто отвечают на вопрос или раскрывают свое
состояние песней. Так, Бэла при встрече с Печориным пропела приветственную песню; в «Тамани» девушка-контрабандистка поет на кровле, «заказывает счастье»; и в
юношеском незаконченном романе Лермонтова «Вадим» Ольга в главе 13-й вместо ответа запевает песню (Т. 6. С. 48).
Песня Казбича процитирована «странствующим офицером» в стихотворной форме, что особо оговорено в примечании автора: «Я прошу прощения у читателей в том, что переложил
в стихи песню Казбича, переданную мне, разумеется, прозой; но привычка — вторая натура». Этим как бы подчеркивается, что «странствующий офицер» — поэт, писатель,
что образ автора-рассказчика в значительной степени автобиографичен. Об этом подробнее см.: Шкловский В. Б. Заметки о прозе русских классиков. 2-е изд., испр. и доп.
М.: Сов. писатель, 1955. С. 172; Виноградов Б. С. Образ повествователя в романе «Герой нашего времени» // Лит. в школе. 1956. № 1. С. 20—28.
Неоднократно отмечалась близость песни Казбича к черкесской песне в «Измаил-Бее»:
Много дев у нас в горах;
Ночь и звезды в их очах;
С ними жить завидна доля,
Но еще милее воля!
Не женися, молодец,
Слушайся меня:
На те деньги, молодец,
Ты купи коня!..
Обе песни у Лермонтова восходят к мотивам, известным в народном творчестве горцев Кавказа. Об этом см.: Семенов Л. П. Лермонтов и фольклор Кавказа. Пятигорск:
Орджоникидз. краев. изд-во, 1941. С. 36 и 79; Андреев-Кривич С. А. Лермонтов: Вопр. творчества и биогр. М.: Изд-во АН СССР, 1954. С. 76.
Вероятно, Лермонтову была знакома и русская народная песня «Ты, дума моя, думушка», где разрабатывается тот же мотив.
Анализируя песню Казбича, Б. С. Виноградов обратил внимание на то, что в этой песне лошадь и женщина не сопоставляются, но противопоставляются друг другу, причем это
противопоставление сделано не в пользу женщины. Между прочим, весь ход повествования, образ самой Бэлы решительно опровергают подозрения Казбича, опровергают его
песню. Карагёза похитили, он был вынужден изменить своему хозяину Казбичу, а Бэла осталась верна любимому Печорину. Золото не могло и не смогло бы купить Бэлу. Ее
можно украсть, убить, но нельзя заставить насильно полюбить.
А. А. Бестужев-Марлинский в рассказе «Красное покрывало» обратился к распространенной в романтической литературе теме любви различных национальных и социальных миров.
Горянка полюбила русского офицера и навсегда потеряла его: он был убит. Автор обращается к своей героине: «...гордое чувство любви возвысило тебя над толпой
единоземок, доступных только рабскому страху или презрительному корыстолюбию даже в том, что они называют любовью». И дальше: «Твой милый сорвал тебя, как цветок, с
корня растительной жизни, и на своих крыльях умчал в новую прекрасную жизнь умственную, но стрела смерти пронзила его в поднебесье — и тебе не дышать более воздухом
этого поднебесья, — не прирасти снова к земле»! (Марлинский А. А. Красное покрывало: Сцены из походной жизни// Марлинский А. А. Второе полн. собр. соч. Ч. 2. СПб.,
1847. С. 117—118).
У Лермонтова другое понимание характера горской женщины. В романтической поэме «Измаил-Бей» поэт создал образ Зары, который во многих отношениях предшествует образу
Бэлы и в известной мере предвосхищает ее.
Как справедливо утверждает Б. С. Виноградов, «песня Казбича с ... мотивом восточного противопоставления женщины и лошади введена автором в роман не только для
выражения местного колорита. Песня Казбича — важнейший компонент идейно-художественной структуры произведения» (Виноградов Б. С. Бэла и песня Казбича // Науч. докл.
высш. школы. Филол. науки. 1963. № 2. С. 198).
— Клянусь, ты будешь владеть конем; только за него ты должен отдать мне сестру Бэлу: Карагёз будет ее калымом. Надеюсь, что торг для тебя выгоден.
Азамат молчал. – Азамат, сам вызвавшийся променять Казбичу на коня свою сестру, молчит в ответ на подобное же предложение Печорина. Это объясняется
тем, что Казбич — магометанин и единоплеменник, а Печорин — «гуяр», иноверец, чужой.
Калым – выкуп, вносимый женихом за невесту ее родным (отцу, брату). Печорин мог знать обычай отдавать в качестве калыма лошадь с седлом.
...приехал Казбич... я попотчевал его чаем, потому что хотя разбойник он, а все-таки был моим кунаком. – Несмотря на заведомую, с точки
зрения русских властей, неблагонадежность Казбича, начальник гарнизона крепости Максим Максимыч ведет с ним знакомство и предпочитает числить Казбича мирным
поставщиком продовольствия, а не абреком.
Урус яман, яман! – Русский злой, злой!
...часовой загородил ему путь ружьем... – Часовой заподозрил, что Казбич совершил какое-нибудь преступление и пытается убежать. Поэтому
солдат попытался задержать горца, бегущего через ворота крепости. Весь эпизод похищения Карагёза и попытки Казбича вернуть коня написан удивительно выразительно,
динамично, короткими, энергичными фразами. Действенная напряженность, точность каждого жеста в этом эпизоде как бы предвосхищают технику кинодраматургии.
...так пролежал до поздней ночи и целую ночь... – В поэме Пушкина «Тазит» старик горец Гасуб, предавший сына проклятию и отрекшийся от
него, выражает свое отчаяние и горе так же, как и Казбич:
Сказал и наземь лег — и очи
Закрыл. И так лежал до ночи,
Когда же приподнялся он,
Уже на синий небосклон
Луна, блистая, восходила
И скал вершины серебрила (Пушкин. Т. 4. С. 321).
Поэма Пушкина под неверным заглавием «Галуб» была напечатана в журнале «Современник» (1837. Т. 7) и не могла пройти мимо внимания Лермонтова.
Как я только проведал, что черкешенка у Григорья Александровича, то надел эполеты, шпагу и пошел к нему. – Как уже указывалось выше, в
повседневной жизни военные на Кавказе не очень строго придерживались соблюдения формы. Максим Максимыч надел эполеты и шпагу, чтобы придать своему появлению у
Печорина официальный характер. Будучи начальником гарнизона крепости, Максим Максимыч обеспокоился, как бы похищение Бэлы и сокрытие ее у Печорина не осложнило
отношений с мирными горцами, к числу которых принадлежал и князь, отец Бэлы. В условиях кавказской войны нельзя было обострять отношений с мирными горцами. Конечно,
это понимал не только Максим Максимыч, но и Печорин.
Максим Максимыч называет Печорина прапорщиком. «Звание прапорщика носили младшие офицеры пехоты и драгунских полков — в других кавалерийских частях этому званию было
эквивалентно звание корнета. Таким образом, Печорин был переведен из гвардии в армейскую пехоту или армейские драгуны. Последнее представляется более вероятным. В
гвардии Печорин служил в кавалерийском, хотя и не в драгунском, полку. «Я был сам некогда юнкером», — замечает он в разговоре с княжной Мери. Юнкерами в то время
назывались кандидаты именно в кавалерийские офицеры; в связи с этим характерна обмолвка Печорина, по-кавалерийски назвавшего Грушницкого юнкером, тогда как следовало
назвать его подпрапорщиком, поскольку Грушницкий служит в пехоте» (Казакова Н. А., Файбисович В. М. Мундир и судьба: Военные реалии в «Княгине Лиговской» и «Герое
нашего времени» М. Ю. Лермонтова // Персонаж и предметный мир в художественном произведении. Сыктывкар, 1988. С. 55—73). Заметим кстати, что чин прапорщика относился
к XIV классу, т. е. соответствовал гражданскому чину коллежского регистратора.
— Пожалуйте вашу шпагу!..
— Митька, шпагу!.. – Без шпаги офицер не имел права выйти из дому. Если старший по службе отбирал у офицера шпагу, это означало домашний арест. Такая
же сцена со шпагой есть в «Капитанской дочке» Пушкина (гл. 4), впервые опубликованной в журнале «Современник» (1836. Т. 4. С. 42—215). По этой публикации Лермонтов
и прочел впервые «Капитанскую дочку». Н. И. Черняев, а за ним Б. В. Нейман обратили внимание на то, что «шпага отбирается у Печорина и возвращается ему обратно так
же быстро, как отбираются и возвращаются шпаги Гринева и Швабрина». В обоих случаях очень похожа домашняя обстановка, в которой отбирается шпага. Никакой
торжественности, никакой официальности. Все подчеркнуто обыденно, снижено. Василиса Егоровна велит Палашке отнести шпаги в чулан. Печорин кличет Митьку, чтобы тот
принес шпагу, которую у него требует Максим Максимыч. И там, и тут дело происходит в захолустной крепости. Об этом см.: Черняев Н. И. Заметки о Лермонтове // Южный
край. 1901. № 6925; Нейман Б. В. Влияние Пушкина в творчестве Лермонтова. Киев, 1914. С. 114.
Насколько несерьезно было наказание Печорина домашним арестом, видно из презрительно-шутливого ответа Печорина Максиму Максимычу: «...оставьте ее (Бэлу) у меня, а у
себя мою шпагу». Сходство эпизодов с арестом в «Капитанской дочке» и в «Бэле» внешнее: в каждом случае назначение этого эпизода различное. Пушкин в своем романе
подчеркивает патриархальность жизни в Белогорской крепости, Лермонтов показывает невозмутимость и равнодушие Печорина к службе. Вместе с тем Печорин отлично понимает
всю напускную суровость Максима Максимыча и не скрывает от него этого понимания.
...ведь вы добрый человек, — а если отдадим дочь этому дикарю, он ее зарежет или продаст. – Печорин разделяет довольно широко
распространенное среди русских убеждение, что горянка — рабочая сила, а когда она вырастает — товар (см.: Семенов Н. Туземцы Северо-Восточного Кавказа. СПб., 1895. С.
81). Печорин понимал, что Бэла, отдавшись ему, обесчестила свой род и отец должен был ее убить или отречься от нее.
Я нанял нашу духанщицу: она знает по-татарски... – Жена содержателя духана (трактира), по всей вероятности, армянка, поскольку торговля
на Кавказе находилась по преимуществу в руках армян, должна была владеть так называемым татарским, т. е. тюркским или, точнее, азербайджанским языком, распространенным
на Кавказе и в Закавказье. Б. С. Виноградов высказал мнение, что речь идет о кумыкском языке. То же относится и к тому языку, который начал изучать Лермонтов. Л. Н.
Толстой тоже учил кумыкский язык и называл его татарским. См.: М. Ю. Лермонтов: Вопр. жизни и творчества // Под ред. А. Н. Соколова и Д. А. Гиреева. Орджоникидзе,
1963. С. 57.
...есть люди, с которыми непременно должно соглашаться. – «Ты можешь все, что хочешь», — говорит Печорину Вера в повести «Княжна Мери».
Вскоре она же пишет ему: «...в твоем голосе, что бы ты ни говорил, есть власть непобедимая». Максим Максимыч почувствовал на себе обаяние властной натуры Печорина.
Герои юношеских поэм и драм Лермонтова вслед за героями Байрона в значительной мере предвосхищали эту важнейшую особенность личности Печорина — подчинять своему
влиянию окружающих. Так, например, Измаил-Бей принадлежит к числу тех, кто
пособий от рабов не просят;
Хотят их превзойти в добре и зле,
И власти знак на гордом их челе (Т. 3. С. 190).
— Помилуйте, отчего же с тоски по родине? Из крепости видны были те же горы, что из аула... – Чтобы видеть хоть издали родные горы,
лермонтовский Мцыри бежит из монастыря и с восторгом вспоминает перед смертью:
В дали я видел сквозь туман,
В снегах, горящих как алмаз,
Седой, незыблемый Кавказ;
И было сердцу моему
Легко, не знаю почему.
Мне тайный голос говорил,
Что некогда и я там жил.
И стало в памяти моей
Прошедшее ясней, ясней (Т. 4. С. 153).
Умирая, Мцыри просит перенести его в сад:
Оттуда виден и Кавказ!
Быть может, он с своих высот
Привет прощальный мне пришлет... (там же, с. 170).
— Послушай, моя пери, — говорил он... – Пери (по-персидски — крылатый) — по религиозным воззрениям древних персов, — одно из прекрасных
и добрых существ, находящихся в непрестанной войне с духами зла — дивами (дэвами). Печорин, как и Лермонтов, не мог, разумеется, не знать поэму В. А. Жуковского
«Пери и ангел» (1821) — перевода части поэмы английского поэта Томаса Мура (1779—1852) «Лалла Рук» («Пери и ангел» — перевод второй части поэмы Т. Мура, носящей в
подлиннике название «Рай и Пери»). Лермонтов и его герой знали и авторское примечание к поэме: «Пери — воображаемые существа, ниже ангелов, но превосходнее людей,
не живут на небе, но в цветах радуги и порхают в бальзамических облаках; питаются одними испарениями роз и жасминов и подвержены общей участи смертных. Индийцы и
другие восточные народы представляют их себе в виде женщин, коих отличительное свойство составляют красота и благотворительность» (Жуковский В. А. Соч. в стихах и
прозе. 10-е изд., испр. и доп. Т. 1. СПб., 1901. С. 212).
Есть у Жуковского и оригинальное стихотворение «Пери» (1831). Кроме того, в тридцатые годы XIX века были широко известны поэма А. И. Подолинского «Див и пери» и
стихотворение Пушкина «Пью за здравие Мери», в котором упоминается пери:
Можно краше быть Мери,
Краше Мери моей.
Этой маленькой пери;
Но нельзя быть милей
Резвой, ласковой Мери (Пушкин. Т. 3. С. 205).
Это стихотворение впервые напечатано в альманахе «Денница» за 1831 год.
Слово «пери» было известно Лермонтову (и Печорину) не только из произведений русских и английских поэтов, часто обращавшихся к восточным мотивам, но и непосредственно
из кавказского фольклора, из занесенных с иранского Востока преданий.
Лермонтов часто употреблял это слово для обозначения красивой женщины. Зара в «Измаил-Бее» «нежна, как пери молодая, создание земли и рая» (Т. 3. С. 170); «Как пери
спящая мила, она (Тамара) в гробу своем лежала» («Демон». Т. 4. С. 212); «На голос невидимой пери шел воин, купец и пастух» («Тамара». Т. 2. С. 202) и т. д.
На другой день он тотчас же отправил нарочного в Кизляр за разными покупками... – Кизляр — город на левом берегу реки Старый Терек, в
пятидесяти верстах от Каспийского моря, известный еще в начале XVII века, с 1735 года — крепость и довольно значительный торговый пункт, через который шли товары в
Баку, Грузию, Персию и даже Индию. В городе было три рынка: русский, армянский и татарский. Город населяли грузины, армяне, кумыки, ногайцы, черкесы, казанские татары,
персы, русские. Здесь закупали необходимые товары и чеченцы. Ср. иронический вопрос в книге «Неправдоподобные рассказы чичероне дель К ...о. II. Федор Петрович
Каталкин» (СПб., 1837): «Чего нет в Кизляре? Это просто Париж восточной части Линии или как говорят, левого ее фланга» (с. 180). Но внешний вид города был неказистым:
саманные сакли, турлучные домики с плоскими камышовыми или глиняными крышами. Кизляр окружали многочисленные болота, в которых гнездились тучи малярийных комаров.
Лермонтов побывал в Кизляре в 1837 году и мог там встретиться с П. А. Катениным, другом Пушкина и декабристов. Не исключено, что поэт бывал в Кизляре и во время
второй ссылки на Кавказ в 1840 году (см.: Шидловский Ю. Записки о Кизляре // Журн. М-ва внутр. дел. 1843. Ноябрь. Ч. 4. С. 161; Попов А. В. М. Ю. Лермонтов в первой
ссылке. Ставрополь, 1949. С. 28—35; Андроников И. Л. Лермонтов в Грузии в 1837 году. Тбилиси: Заря Востока, 1958. С. 165—197).
...устоит ли азиатская красавица против такой батареи? — «Вы черкешенок не знаете, — отвечал я: — это совсем не то, что грузинки или закавказские
татарки, — совсем не то. У них свои правила: они иначе воспитаны». – Убийца Лермонтова Н. С. Мартынов рассказывает в своем очерке «Гуаша» о любви к
черкешенке одного из товарищей Лермонтова, князя А. Н. Долгорукого, служившего в 1837 году на Кавказе: «...Долгорукий часто привозил Гуаше незначительные подарки:
когда купит для нее материи на бешмет; в другой раз поднесет ей стеклянные бусы... Получив от него какую-нибудь вещь, она никогда не рассматривала ее, как это делают
почти все азиатцы, и даже многие из европейцев, но молча принимала подарок, благодарила за него искренно, хотя и с достоинством, нисколько, впрочем, не стараясь
скрыть своего удовольствия, если вещь ей нравилась. Казалось, все усилия ее клонились только к тому, чтобы доказать, что она более ценит внимание лица, чем его
подарок...» (Изв. Тамб. учен. архивной комис. Вып. 47. Материалы для истории Тамб., Пенз. и Сарат. дворянства. Т. 1. Ч. 2. Тамбов, 1904. С. 113—114).
Раз утром он велел оседлать лошадь, оделся по-черкесски, вооружился и вошел к ней... Только едва он коснулся двери, как она вскочила, зарыдала и
бросилась ему на шею... – Психологический рисунок этого эпизода Лермонтов нашел задолго до написания «Героя нашего времени». Ср. со сценой в романе
«Вадим»: «С мрачным лицом он взошел в комнату Ольги... она не могла вынести долее, вскочила и рыдая упала к его ногам...» (Т. 6. С. 44—46).
...уздени его отстали... – Как объяснял А. А. Бестужев-Марлинский, «уздень — слово татарское, сложенное из двух uz и den,
что значит: сам от себя зависящий, независимый» (Марлинский А. А. Мулла-Нур // Б-ка для чтения. 1836. Т. 17. Отд. 1. С. 158). А. Л. Зиссерман подтверждает эту
этимологию (см.: Зиссерман А. Л. Двадцать пять лет на Кавказе. Ч. 2. СПб., 1879. С. 435). У кабардинцев уздени составляли своего рода дворянское сословие, которое
считалось выше зависимых сословий и ниже только князей. У черкесов в их сложном феодальном строе первое место занимали пши — князья; за ними следовали дворяне —
вуорки, или уздени трех степеней: 1) тлехотль — подчинявшиеся князьям, но считавшиеся владетельными наравне с князьями; 2) беслен-вуорк — причисленные к княжеским
или к дворянским аулам и 3) вуорк-шаотляхуса. За ними стояли уздени-пшекау, «которых можно назвать княжьими отроками или конвойными князя». Этими узденями-пшекау
Лермонтов и окружил старого князя, возвращающегося с поисков дочери (см.: Дубровин. Н. История войны и владычества русских на Кавказе. Т. 1. Кн. 1. СПб., 1871. С.
193 и 451; ср.: Дурылин, с. 189—190).
У чеченцев не было такого сложного разделения общества. «Все чеченцы... составляют общий класс узденей, без всякого подразделения на сословия. — Мы все уздени, —
говорят чеченцы, — понимая под этим словом людей, зависящих только от себя (слово «уздень» на чеченском языке произносится «ёзюдан» и происходит от слов: ёзю — от
и дан — себя)» (Леонтович Ф. И. Адаты Кавказских горцев. Вып. 2. Одесса, 1883. С. 258; ср.: Дурылин, с. 190).
У кумыков, как и у черкесов, было сословное деление общества, и уздени, или дворяне, находились в вассальных отношениях к князьям (См.: Семенов Н. Туземцы
Северо-Восточного Кавказа. СПб., 1895. С. 230).
Независимо от решения вопроса, был ли отец Бэлы кабардинским или кумыкским князем, в данном случае его уздени означают его свиту, состоящую из приближенных дворян
или княжьих отроков, но никоим образом не простых слуг.
— Он вознаградил себя за потерю коня и отомстил... – У горцев Северного Кавказа «едва младенец начинает понимать, как мать, отец, аталык
(воспитатель) и все родные твердят ему одно и то же, что он должен ненавидеть своего врага и мстить кровью за кровь, обиды и оскорбления» (Леонтович Ф. И. Адаты
кавказских горцев. Вып. 2. Одесса, 1883. С. 258). О кровной мести Лермонтов писал неоднократно: см., например: «Каллы» (1831), «Хаджи Абрек» (1833—1834) и «Беглец»
(1839).
Меня невольно поразила способность русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить... – Способность
применяться к обычаям народов, среди которых ему случается жить, отчетливо видна в высказываниях Максима Максимыча, весь рассказ которого позволяет Печорину сделать
такой общий вывод. В Максиме Максимыче, таким образом, находит свое выражение типичная черта характера и поведения русского человека, его национальная особенность.
Это же понимание психологии и обычаев других народов присуще и Печорину, и рассказчику, «странствующему офицеру», но не интуитивно, стихийно, а интеллектуально,
рационалистически.
...туманы, клубясь и извиваясь, как змеи... – Сравнение облаков со змеями встречается у Лермонтова не раз: в «Хаджи Абреке»: «Ползут, как
змеи, облака» (Т. 4. С. 277), в поэме «Сашка»: «Обнявшись, свившись, будто куча змей, беспечно дремлют» (там же, с. 92).
...удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми... – Недоверие к искренности Руссо (см. Предисловие
к «Журналу Печорина») не мешает рассказчику разделять его идею об облагораживании человека путем сближения с природою, его отвращения к «приобретенному» душою,
затемняющему ее первозданную сущность. В «Думе» Лермонтов осудил свое поколение, которому суждено состариться в бездействии именно под бременем приобретенного, «под
бременем познанья и сомненья». Демон в «Сказке для детей» наказан не только вечностью, но и знанием, и Печорин видит свое несчастье в том, что живет не сердцем, а
только головою, мыслями, а не чувствами. «Становиться детьми, — замечает М. Н. Розанов, — это большая похвала в устах нашего поэта. С Руссо и Байроном он разделяет
необычную любовь к детям» (Розанов М. Н. Байронические мотивы в творчестве Лермонтова // Венок Лермонтову. М., 1914. С. 363—364). Ср.: стихотворения «Казачья
колыбельная песня» и «Ребенку».
Эпитет «детский» в применении к взрослым у Лермонтова всегда служит похвалой.
Руссоизм Лермонтова, как и руссоизм Льва Толстого, вызван презрением к праздной пустоте и утомительной искусственности светской жизни: это философское обращение к
целительной близости к природе обещало, по их убеждению, возвращение утраченной гармонии, преодоление трагических противоречий социальной действительности. См.:
Семенов Л. П. Лермонтов и Лев Толстой. М., 1914. С. 48 и след.; Розанов М. Н. Байронические мотивы в творчестве Лермонтова // Венок Лермонтову. М., 1914. С. 383;
Григорьян К. Н. Лермонтов и романтизм. М.; Л.: Наука, 1964. С. 179 и след. Ср.: Дьяконова Н. Я. Байрон и Руссо // Тезисы конференции, посвященной 250-летию со дня
рождения Жан-Жака Руссо. Одесса, 1962. С. 81.
...поймет мое желание передать, рассказать, нарисовать эти волшебные картины. – Лермонтов, как известно, учился рисованию и живописи с юных
лет и был одаренным художником-любителем. В 1837 году, странствуя по Кавказу и Закавказью, он, по собственному признанию, «снял на скорую руку виды всех
примечательных мест», которые посещал, и их у него собралась «порядочная коллекция» (письмо к С. А. Раевскому. Т. 6. С. 440). Сохранилось несколько видов Кавказа,
написанных Лермонтовым масляными красками, например: «Воспоминания о Кавказе», «Эльбрус. Вид с Бермамыта», «Башня в селении Сиони близ Казбека», «Тифлис»,
«Развалины близ селения Карагач в Кахетии» и др. Об этом подробнее см.: Пахомов Н. П. Живописное наследство Лермонтова // Лит. наследство. 1948. Т. 45—46. С. 55—222;
Андроников, с. 413—430.
...и к свисту пули можно привыкнуть, то есть привыкнуть скрывать невольное биение сердца. – Максим Максимыч, который «не любит
метафизических прений» (последние слова романа) и ограничивается лишь внешней «физиологией» явлений, недаром вспомнил здесь чувство, испытанное им в боях.
...эта музыка даже приятна... сердце бьется сильнее. – Ср. у Пушкина в «Пире во время чумы»
(1830):
Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю.
И дальше:
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог,
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог (Пушкин. Т. 5. С. 419).
Максиму Максимычу есть что порассказать, и он, как успел подметить его собеседник, довольно словоохотлив, но о себе, о своей боевой жизни говорит мало и очень
скромно. Скромна и сдержанна манера рассказа Максима Максимыча. В этом отношении показательно сравнение его рассказа со стилем Марлинского. «Сегодня по пояс в снегу,
— повествует отставной полковник в повести «Вечер на Кавказских водах в 1824 году», — завтра по колено в грязи, и потом, промокши до самого сердца, просушиваться под
картечным огнем неприятельским. В цепи или в разъезде вместо отдыха, то преследуя побежденных, то утекая разбитый и, в довершение удовольствий, нося более ран на
теле, чем петель на мундире» (Бестужев-Марлинский А. А. Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1981. С. 259—260).
...под нами лежала Койшаурская долина... – Повесть «Бэла» начинается описанием Койшаурской долины, в которую только что въехал
офицер-повествователь, автор повести. Теперь эта же долина описывается сверху, так как она видна с Гуд-горы, по склону которой в то время проходила Военно-Грузинская
дорога.
...тут бы и остаться жить навеки... – В конце 1837 года, описывая в письме к С. А. Раевскому свои разъезды по Кавказу, Лермонтов восторгался
этим самым видом: «...лазил на снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что не совсем легко; оттуда видна половина Грузии как на блюдечке, и, право, я не берусь
объяснить или описать этого удивительного чувства; для меня горный воздух — бальзам; хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит — ничего не надо в эту минуту;
так сидел бы да смотрел целую жизнь» (Т. 6. С. 441).
...застанет нас на Крестовой. – Крестовая Гора в Главном Кавказском хребте, по Военно-Грузинской дороге между Койшауром и Коби (в этом
месте теперь дорога идет в обход). Крестовая отделена от Гуд-горы Чертовой долиной. На вершине горы водружен крест, давший имя самой горе (см.: Семенов П. П.
Географическо-статистический словарь Российской империи. Т. 2. СПб., 1865. С. 785).
Уносные – первая пара лошадей при запряжке четверкою (от слова «уносы» — постромки).
...мы точно могли бы не доехать, однако ж все-таки доехали... – Подобная жанровая картинка, изображающая беспечность «нашего русака», есть
и у Гоголя в «Мертвых душах» (т. 1, гл. 3). Селифан везет Чичикова к Собакевичу, худо зная дорогу. «Так как русский человек в решительные минуты найдется, что
сделать, не вдаваясь в дальние рассуждения, то, поворотивши направо, на первую перекрестную дорогу... пустился он вскачь, мало помышляя о том, куда приведет взятая
дорога... Русский возница имеет доброе чутье вместо глаз; от этого случается, что он, зажмуря глаза, качает иногда во весь дух и всегда куда-нибудь да приезжает».
Наблюдения обоих писателей (на сходство их указал В. И. Шенрок в кн.: Материалы для биографии Гоголя. Т. 3. М., 1895. С. 411—412) освещены одинаковой иронией,
добродушною и в то же время наводящею на глубокое раздумье.
...переезд через Крестовую Гору (или, как называет ее ученый Гамба, le Mont St.-Christophe) достоин вашего любопытства. – Гамба (Jacques François Gamba, 1763—1833) — известный путешественник, изучавший пути Франции к восточным рынкам. Пользуясь покровительством русских властей, Гамба совершил в 1817 году путешествие по южной России, посетил порты Черного моря и западные берега Каспия. Во время второго путешествия в 1819 году он посетил Северный Кавказ, Дагестан, Грузию, Ширван и побывал в Москве и Петербурге. По настоянию Гамба в Тифлисе было учреждено французское консульство, и он был назначен консулом, в звании которого и умер. В 1824 году в Париже вышла в двух томах с атласом книга Гамба «Voyage dans la Russie méridionale et particulièrement dans les provinces situées an-delà du Caucase» («Путешествие в Южную Россию и преимущественно в Кавказские области», совершенное с 1820 до 1824 года; второе издание вышло в 1826 году; выдержки из этого путешествия печатались в «Русском архиве» в 1826—1828 годах). «Нельзя сказать, чтобы сведения, сообщаемые Гамбой, отличались особенною основательностью», — замечает библиограф литературы о Кавказе и
Закавказье М. Миансаров (Bibliographia Caucasica et Transcaucasica. Опыт справочного систематического каталога печатным сочинениям о Кавказе, Закавказье и племенах,
эти края населяющих. Т. 1. Отд. 1. СПб., 1874. С. 353).
Лермонтов имеет в виду следующее место в книге Гамба. «Наши лошади углублялись в снег и лед, и мы были вынуждены обратиться к помощи волов, отданных в наше
распоряжение; они после четырех верст медленного и тяжелого ходу подвезли нас на вершину горы св. Кристофа, до высшей точки нашего путешествия».
Ошибку Гамба, переименовавшего Крестовую гору в гору святого Христофора, раньше Лермонтова заметил сотрудник «Московского телеграфа» (Моск. телеграф. 1833. № 15.
С. 362—363; ср.: Дурылин, с. 194—195).
Странствующий офицер, автор путевых записок, прозаическим образом объясняет название «Чертова долина» и иронизирует над читателем, склонным видеть «гнездо злого духа
между неприступными утесами». Тем не менее именно в этих местах в 1837 году Лермонтов слышал горские сказания, отразившиеся в зрелых редакциях «Демона». П. А.
Висковатов писал: «Старая Военно-Грузинская дорога, следы коей видны и поныне, своими красотами и целой вереницей легенд особенно поразила поэта. Легенды эти были ему
известны уже с детства, теперь они возобновились в его памяти, вставали в фантазии его, укреплялись в памяти вместе с то могучими, то роскошными картинами кавказской
природы. Вот тут-то зародилась в Михаиле Юрьевиче мысль перенести место действия любимой его поэмы «Демон» на Кавказ. До сей поры оно было в Испании» (Висковатов,
с. 263—264).
В другом месте Висковатов говорит: «Окрестности [Военно-Грузинской дороги] полны сказаний о горном или злом духе, полюбившем девушку-грузинку. Так, вблизи находится
«Чертова долина», и в ней груда камней чуждой долине формации, принесенных, быть может, еще в стародавние времена во время какого-либо геологического переворота.
Слышанные мною предания об этих камнях сходятся в том, что горный дух полюбил молодую девушку, в свою очередь любившую молодого человека. В минуту ревности дух завалил
хижину молодых людей грудой страшных камней. Верстах в 20 или в 25 от Гуд-аула на правом берегу Арагвы, в ложбине между двух покатых камней, находятся развалины
монастыря, о коем окрестные жители рассказывают, что дух, рассердившись на инокинь... разрушил монастырь громовой стрелой. Может быть, Лермонтов слышал о монастыре
более подробные сказания; они весьма разнообразны. Во всяком случае, не подлежит сомнению, что эту местность имел в виду поэт при описании той обители, куда Гудал
(ср. Гуд-аул) отводит дочь свою:
В прохладе меж двумя холмами
Таился монастырь святой».
(Лермонтов М. Ю. Соч.: В 6-ти т. / Под ред. П. А. Висковатова. Т. 3. М., 1891. С. 119—120).
В «Герое нашего времени» Лермонтов подчеркивает свой отход от романтических традиций и «романтическое» название Чертовой долины сознательно толкует в прозаическом,
сниженном смысле.
...Саратов. Тамбов и прочие милые места... – Эти города упомянуты Лермонтовым не совсем случайно. Саратов в те времена еще считался
классическим образцом далекого захолустья с легкой руки Грибоедова, у которого в «Горе от ума» (д. IV, явл. 14-е) Фамусов грозит дочери отправить ее «к тетке, в
глушь, в Саратов». Тамбов же сам Лермонтов осмеял в «Тамбовской казначейше».
...ветер... свистал, как Соловей-Разбойник... – Образ из былины об Илье Муромце и побежденном им страшном Соловье-Разбойнике, от свиста
которого «под Ильею конь окарачился»; даже на дворе у князя Владимира, когда привязанный к седельной луке Соловей по приказу Ильи, желавшего потешить князя, засвистел
по-своему, по-соловьиному, «князи и бояра испужалися, на карачках по двору наползалися, и все сильны богатыри могучие. И накурил он беды несносные: гостины кони с
двора разбежалися, и Владимир князь едва жив стоит со душой княгиней Апраксеевной...» (см.: Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. М.:
Гослитиздат, 1938. С. 242 и 246).
Лермонтов хорошо знал русское народное творчество и глубоко проникал в поэтику русской песни и сказки. В годы, непосредственно предшествующие работе над «Героем
нашего времени», Лермонтов внимательно изучал сборник Кирши Данилова в издании 1818 года, ставший едва ли не самым важным источником «Песни про купца Калашникова»
(см.: Азадовский М. К. Фольклоризм Лермонтова // Лит. наследство. 1941. Т. 43—44. С. 227—262; Штокмар М. П. Народно-поэтические традиции в творчестве Лермонтова
// Там же. С. 263—352).
...об этом кресте существует странное, но всеобщее предание, будто его поставил император Петр 1-й, проезжая через Кавказ; но, во-первых, Петр
был только в Дагестане, и, во-вторых, на кресте написано крупными буквами, что он поставлен по приказанию г[енерала] Ермолова, а именно в 1824 году. –
«Всеобщее предание» о кресте Петра I нашло отражение и в статье в «Московском телеграфе»: «На самой высокой точке переправы через Кавказское ущелье — на вершине
Крестовой горы — императором Петром Великим поставлен крест в ознаменование перехода им сими местами с войском своим. Отсюда начало названия горы Крестовой» (Моск.
телеграф. 1833. № 15. С. 363).
Название Крестовая дано горе, как было уже указано выше, действительно от каменного креста, но возражение Лермонтова справедливо: крест воздвигнут «по приказанию
Ермолова» в 1824 году; Петр I не был ни в Дарьяльском ущелье, ни на Крестовом перевале; в 1722 году он посетил западный берег Каспийского моря и прилегающую к нему
часть Дагестана.
По всей вероятности, Лермонтову была известна статья Павла Бестужева в «Сыне отечества» (1838, № 1) «Замечания на статью „Путешествие в Грузию“, помещенную в одном
из московских журналов» (Моск. телеграф. 1833. Авг. № 15). Статья П. Бестужева была напечатана незадолго до работы Лермонтова над «Бэлой». В этой статье П. Бестужев
писал: «Если г. Гамба перекрестил Крестовую гору в Mont St. Cristophe, то русскому путешественнику стыдно не знать, что Петр I никогда не проходил через Кавказские
горы и поэтому не мог поставить креста на Крестовой горе...» О принадлежности очерка не А. Бестужеву-Марлинскому, как это указано в журнале, а его брату Павлу см.:
Воспоминания Бестужевых / Ред. и коммент. М. К. Азадовского. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. С. 700 (Лит. памятники); Виноградов Б. С. О «Герое нашего времени» //
М. Ю. Лермонтов: Материалы и сообщения VI Всесоюзной Лермонтовской конференции. Ставрополь, 1965. С. 21—24.
Не исключено, что крест на перевале существовал с древнейших времен и не раз обновлялся. До 1824 года надпись на кресте гласила: «Крест сей воздвигнут в память
строения дороги, сделан попечением подполковника Казбека 1809 года». Казбек — это Гарбриэль Казбеги, дед писателя Александра Казбеги, правитель области Хеви. Но о
кресте есть упоминание, относящееся и к 1805 году, где его сооружение приписывается П. С. Потемкину, первому наместнику Кавказа, родственнику Г. А. Потемкина (см.:
Маркелов Н. «Старый памятник, обновленный Ермоловым...» // Ставрополье. 1979. № 3. С. 62—63).
Нам должно было спускаться верст пять... чтоб достигнуть станции Коби. – Коби — деревня и почтовая станция у подъема на Крестовую гору.
Рассказчик, странствующий офицер, с Максимом Максимычем едет с юга, из Тифлиса, на север, во Владикавказ. Поэтому для них Коби находилась ниже, на северном склоне
между Крестовым перевалом и станцией Казбек, куда они спускались, настигнутые зимней метелью.
...метель гудела сильнее и сильнее... – В. М. Фишер обратил внимание на то, что для описания метели у Лермонтова «красок нет, и он передает
ее звуками, все метели у Лермонтова особенно певучи... Мы слышим их, но мы их не видим» (Фишер В. М. Поэтика Лермонтова // Венок Лермонтову. М., 1914. С. 207—208).
С. В. Шувалов заметил, что «пейзаж вводится в роман не просто по связи с местом или временем действия: он нужен для мотивировки переживаний героя (Печорина или
рассказчика в двух первых новеллах) как фактор, вызывающий в нем известные настроения, желания, мысли. Поэтому пейзаж рисуется в преломлении психики героя,
переносящего в природу свое «я», ищущего в ней успокоения и очищения от пустой и пошлой жизни. Такое отношение к природе вызывает широкое применение в пейзаже приемов
анимизации (оживления) и антропоморфизации (очеловечения), а также обилие субъективно-оценочных эпитетов; нередки авторские восклицания, вопросы, обращения к
изображаемому. Такова, например, в «Бэле» лирическая картина при спуске к станции Коби» (Шувалов С. В. «Герой нашего времени» в школьной проработке // Рус. яз. в
сов. школе. 1929. № 4. С. 62).
И ты, изгнанница, — думал я, — плачешь о своих широких раздольных степях! – Обращение автора записок к метели как к тоскующей и рвущейся на
волю изгнаннице, похожее на стихотворение в прозе, подсказывает догадку о том, что этот офицер, подобно Лермонтову и Печорину, был подневольным кавказцем, «изгнанником
с милого севера в сторону южную».
Байдара – правый приток Терека в его верхнем течении, протекает по Байдарскому ущелью, начинающемуся у станции Коби, где Военно-Грузинская
дорога, покинув долину Терека, поднимается к Гудаурскому перевалу; зимою это один из самых опасных и трудных участков дороги, где снежные обвалы угрожают жизни
путников.
...сакли: там всегда-с проезжающие останавливаются в погоду... – Проезжающие по Военно-Грузинской дороге обычно останавливались в сакле
Бидаровых у северного подножья Крестового перевала. Возможно, эту саклю и описал Лермонтов. См.: Кусов Г. М. Ю. Лермонтов в сакле Бидаровых // Кусов Г. Поиски
краеведа. Орджоникидзе, 1975. С. 53—73.
...у меня нет семейства... – Слова Максима Максимыча напоминают лермонтовское «Завещание». Эта проза и эти стихи предвосхищают трогательные
страницы «Набега» Л. Н. Толстого о капитане Хлопове и его матери (см.: Семенов Л. П. Лермонтов и Л. Толстой. М., 1914. С. 137).
Кавказские служаки чаще всего бывали до конца своих дней холостяками. Об этом писал Лермонтов в очерке «Кавказец»: «Он женится редко, а если судьба и обременит его
супругой, то он старается перейти в гарнизон и кончает дни свои в какой-нибудь крепости, где жена предохраняет его от гибельной для русского человека привычки»
(Т. 6. С. 351).
На безбрачие рядовых кавказских офицеров обрекали бытовые условия военной кавказской жизни и материальная необеспеченность (см.: Ливенцов М. Воспоминания о службе
на Кавказе в начале 1840-х годов // Рус. обозрение. 1894. № 4. С. 753). Декабрист Н. И. Лорер рассказал «грустную, но обыкновенную у нас на Руси повесть» о семейном
старике офицере, дошедшем до «вопиющей нищеты» (Рус. архив. 1874. Кн. 2. С. 662—663). Известный кавказский офицер Н. П. Колюбакин писал своему боевому товарищу И. Ф.
Хлопову о том, что многосемейному офицеру, чтобы содержать семью, приходилось прибегать к незаконным поборам и взяткам (Рус. архив. 1874. Кн. 2. С. 951).
Привязанность к Кавказу, трудность и дороговизна сообщений с Россией часто навсегда отрезали холостого кавказца от родного дома (см.: Дурылин, с. 110—119).
А если это так будет продолжаться, то я сама уйду: я не раба его, — я княжеская дочь!.. – Характерно, что Бэла не считает себя пленницей
Печорина, она не покорилась ему, но полюбила его как свободная, княжеская дочь.
...схватила свой бубен, начала петь, плясать и прыгать... – Грация и подвижность Бэлы часто выказываются в танцах. «Как она пляшет!» —
расхваливает ее Азамат. «А уж как плясала!» — вспоминает Максим Максимыч. Княжна Мери «вальсирует удивительно хорошо». Таманская контрабандистка поет и прыгает целый
день. Прекрасных героинь своих Лермонтов любит показывать в танцах. Танцуют Леила («Хаджи Абрек»), Тамара («Демон»), Нина («Маскарад»), маленькая Нина («Сказка для
детей»), Ольга («Вадим»). Героини Лермонтова часто выражают танцем то, чего они не могли бы выразить словами.
...только что порох на полке вспыхнул... – В кремневых ружьях и пистолетах полкой называлась часть замка, находившаяся с внешней стороны
ствола, на которую насыпался порох. При ударе курка, снабженного куском кремня, о стальное огниво, прикрепленное к крышке, прикрывающей полку, появлялась искра,
зажигавшая порох на полке. Эта вспышка сквозь отверстие в стволе (затравку) взрывала пороховой заряд, забитый под пулей в ствол ружья или пистолета.
...у меня несчастный характер... – Здесь начинается первая исповедь Печорина, его самораскрытие, подготавливающее портрет, нарисованный
автором в следующей повести «Максим Максимыч», а затем и «Журнал Печорина», в котором Печорин ведет рассказ от своего лица.
...любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни; невежество и простосердечие одной так же надоедают, как и кокетство другой... – К
концу тридцатых годов XIX века, когда Лермонтов создавал свой роман, разработка мотива любви цивилизованного европейца к «дикарке» была уже широко использованным и
привычным явлением в романтической литературе. Отрицательное отношение к европейской цивилизации и поэтизация первобытной «простоты естественного человека» восходят к
философии Руссо и к сочинениям Шатобриана (напр., повесть Шатобриана «Атала», в которой «дикарка» освобождает пленника, а затем «Рене» и «Начезы», представляющие
один цикл с повестью «Атала»). Особенно яркое выражение руссоистская традиция и разработка мотива любви европейца к «дикарке» получила в некоторых восточных поэмах
Байрона (напр., «Гяур», «Корсар»), а также в отдельных эпизодах «Дон-Жуана». Пушкин в романтических поэмах «Кавказский пленник» и «Цыганы» не только следовал
европейской традиции, но и глубоко вскрыл иллюзорность, несостоятельность всех этих попыток найти утраченную гармонию в сближении с первобытными, «естественными»
условиями жизни. Его Пленник и Алеко терпят полный крах в своих руссоистских иллюзиях. Лермонтов, начав с подражания Пушкину в юношеской романтической поэме
«Кавказский пленник», в повести «Бэла» традиционную романтическую историю любви горской девушки к русскому офицеру переключает в принципиально новый реалистический
план. Эта романтическая по своему содержанию история не случайно рассказана старым кавказцем, простодушным Максимом Максимычем. Кроме того, в замысле романа очень
большое значение имеет противопоставление любви «дикарки» сложной и утомительной игре Печорина с княжной Мери и его мучительной связи с Верой.
...мне осталось одно средство: путешествовать. Как только будет можно, отправлюсь, — только не в Европу, избави боже! — поеду в Америку, в Аравию, в Индию,
— авось где-нибудь умру на дороге! – Предчувствие Печорина, основанное на глубоком понимании своей натуры, сбывается. Как мы узнаем из Предисловия к
«Журналу Печорина», Печорин, возвращаясь из Персии, умер.
Страсть к путешествиям и особый интерес к жизни и культуре народов Востока — черта автобиографическая. В письме к С. А. Бахметьевой в 1832 году Лермонтов писал:
«...право мне необходимо путешествовать; — я цыган» (Т. 6. С. 411). В конце 1837 года с Кавказа Лермонтов писал С. А. Раевскому: «Я уже составлял планы ехать в Мекку,
в Персию и проч., теперь остается только проситься в экспедицию в Хиву с Перовским» (там же, с. 441). В последние месяцы жизни Лермонтов полагал, что поездка на
Восток интереснее поездки в Америку. В письме к Е. А. Арсеньевой он писал: «Скажите Екиму Шангирею [т. е. А. П. Шан-Гирею], что я ему не советую ехать в Америку, как
он располагал, а уж лучше сюда на Кавказ. Оно и ближе и гораздо веселее» (там же, с. 459).
В последний приезд в Петербург, в начале 1841 года, Лермонтов неоднократно говорил с А. А. Краевским о своем интересе к Востоку: «Мы должны жить своею самостоятельною
жизнью и внести свое самобытное в общечеловеческое. Зачем нам все тянуться за Европою и за французским. Я многому научился у азиатов, и мне бы хотелось проникнуть в
таинства азиатского миросозерцания, зачатки которого и для самих азиатов и для нас еще мало понятны... там на Востоке тайник богатых откровений» (Висковатов, с. 368).
Об интересе Лермонтова к Востоку см.: Гроссман Л. П. Лермонтов и культура Востока // Лит. наследство. 1941. Т. 43—44. С. 674—744.
Б. М. Эйхенбаум обратил внимание на то, что страсть к путешествиям, стремление вырваться из России и повышенный интерес к Востоку характерны для настроений дворянской
интеллигенции в последекабристский период. Д. В. Веневитинов писал в 1827 году: «Я еду в Персию. Это уже решено. Мне кажется, что я там найду силы для жизни и
вдохновения» (Веневитинов Д. В. Полн. собр. соч. М.; Л.: Academia, 1934. С. 344). В драме В. К. Кюхельбекера «Ижорский» герой говорит:
Игралище страстей, людей и рока,
Я счастия в странах роскошного Востока
Искал в Аравии, в Иране золотом,
Под небом Индии чудесной...
См.: Эйхенбаум Б. М. Роман Лермонтова «Герой нашего времени» // Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени. М.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 144 (Лит. памятники).
— А все, чай, французы ввели моду скучать?
— Нет, англичане. – Отвечая так Максиму Максимычу, автор путевых записок имеет в виду сплин (английское слово spleen — в буквальном значении
— селезенка, в переносном — хандра, тоскливое настроение, пониженный жизненный тонус, что в старину связывали с заболеванием селезенки). Недуг сплина, охвативший
наиболее просвещенную и пресыщенную жизнью аристократическую молодежь Англии в начале XIX века, был одним из проявлений «мировой скорби», в которой нашло свое
выражение разочарование в политических и философских идеалах эпохи Просвещения и Французской буржуазной революции. Тип хандрящего, разочарованного скептика —
Чайльд-Гарольд — герой поэмы Дж. Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда». Эти настроения разочарования, скепсиса, хандры получили широкое распространение и у
дворянской интеллигенции России в годы торжества реакционной политики Священного союза. Сплин — мрачное состояние духа, характерное и для Онегина, типичного героя
конца 1810 — начала 1820-х годов:
Недуг, которого причину
Давно бы отыскать пора,
Подобный английскому сплину,
Короче: русская хандра
Им овладела понемногу... (Пушкин. Т. 5. С. 26)
По справедливому замечанию Н. Л. Бродского, «если... меланхолические признания вырывались у людей, не обнаруживавших склонности к общественному делу, пассивно
выражавших лишь свое отвращение к пошлости обыденной жизни, то та же объективная жизнь в ее косной стихии вызывала более обостренное, более едкое чувство скуки,
хандры в той среде, которая мечтала о сдвигах и переменах в общественной жизни, которая иногда попадала в страдающее положение, слышала окрик чиновных скалозубов,
ощущала тяжелую и давящую лапу деспотического строя».
У Пушкина в политической ссылке то и дело прорывались стоны: «мне скучно»; «у меня хандра»; «скука смертная везде»; «тебе скучно в Петербурге, а мне скучно в деревне»;
«скучно — вот и все»; «часто бываю подвержен так называемой хандре»; «скука есть одна из принадлежностей мыслящего человека».
Н. И. Тургенев в 1814 году завел «Книгу скуки» и, когда в 1820 году закончилась неудачей его попытка обратиться к правительству с предложением начать освобождение
страны от рабства, писал в дневнике 1 июня: «Безнадежность моя достигла высочайшей степени... Скучная, мрачная будущность, одинокая старость, морозы, эгоисты и
бедствия непрерывные отечества — вот что для меня остается!» Его брат С. И. Тургенев в связи с той же неудачей писал 15 июля 1820 года: «Теперь все веселье мое
исчезло. Наши противники обдали меня холодной водой, их любимым элементом, и я проснулся поневоле» (цит. по: Бродский Н. Л. «Евгений Онегин»: роман А. С. Пушкина:
Пособие для учителя. 5-е изд. М.: Просвещение, 1964. С. 98—99).
В годы после разгрома восстания декабристов, в годы общественного упадка и «всеобщего раболепия» разочарование, сплин стали одной из форм выражения дворянской
оппозиции николаевскому режиму с его православием и официальной народностью. Эти настроения были близки и понятны Лермонтову и наиболее полное выражение нашли в
образе «героя времени» Печорина, затем Лугина в отрывке «Штосс» (1841).
Состояние одержимого сплином человека хорошо обрисовал приятель Лермонтова В. Ф. Одоевский в повести «Записки гробовщика» (Альманах на 1838 год. СПб., 1838. С.
221—222; ср.: Дурылин, с. 200).
...Слышал я, что на правом фланге у шапсугов есть какой-то Казбич, удалец, который в красном бешмете разъезжает шажком под нашими выстрелами и превежливо
раскланивается, когда пуля прожужжит близко; да вряд ли это тот самый!.. – Об этом другом, историческом Казбиче, Кизилбече Шертулокове, см.: Дубровин
М. История войны и владычества русских на Кавказе. Т. 1. Кн. 1. СПб., 1871. С. 203—204; Потто В. А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и
биографиях. Т. 2. СПб., 1885. С. 626—628, 638 и др.; Записки генерала М. Ольшевского. Кавказ с 1841 по 1866 гг. // Рус. старина. 1895. Кн. 6. С. 173; Кавказский
сборник. Вып. 19. 1898. С. 50, 168—170, 172, 174, 183—188, 204, 209, 213; Щербина А. Ф. История Кубанского казачьего войска. Т. 2. Екатеринодар, 1913. С. 255—256,
259—260, 272, 276—278, 281—282 и др.; Лернер Н. О. Оригинал одного из героев Лермонтова // Нива. 1913. № 37. С. 732; Семенов Л. П. Лермонтов на Кавказе. Пятигорск:
Орджоникидз. краев. изд-во, 1939. С. 93—94; Гиоргидзе Г. Конец Казбича // Лит. Грузия. 1958. № 6. С. 111; Попов А. В. «Герой нашего времени»: Материалы к изучению
романа М. Ю. Лермонтова // Литературно-методический сборник. Ставрополь, 1963. С. 49—53; Виноградов Б. С. Горцы в романе Лермонтова «Герой нашего времени» // М. Ю.
Лермонтов: Вопр. жизни и творчества. Орджоникидзе: Сев.-Осет. кн. изд-во, 1963. С. 59—62.
29 февраля 1840 года при взятии горцами форта Вельяминовского Кизилбеч Шертулоков был тяжело ранен и вскоре умер (см. рапорт начальника I отдел. Черноморской береговой
линии генерал-лейтенанту Н. Н. Раевскому // Архив Раевских. Т. 3. СПб., 1910. С. 422).
Правый фланг Кавказской линии простирался от границ Черноморья до Каменного моста на реке Малке и состоял из трех кордонных линий — Кубанской, Лабинской и
Кисловодской; последняя, охранявшая Минеральные Воды, в военном отношении имела второстепенное значение (см.: Филипсон Г. И. Воспоминания // Рус. архив. 1884. Т. 1.
С. 367—368).
Шапсуги – вольное черкесское племя, жившее по берегу Черного моря, от Анапы до реки Шахе, и по низовой части Закубанья.
До 1863 года шапсуги отчаянно сопротивлялись русским властям. В 1864 году, теснимые правым флангом русских войск, они получили приказ переселиться на Кубанскую равнину
или выселиться в Турцию. О шапсугах см.: Люллье Л. О натуханцах, шапсугах и абадзехах // Записки Кавк. отд-ния Рус. географ. о-ва. Тифлис, 1857. Кн. 4. С. 234—236.
Бешмет – недлинная, обтягивающая стан одежда горцев, мужская и женская, полукафтан, носится под верхней одеждой, то же, что и архалук (ахалук).
Сознайтесь, однако ж, что Максим Максимыч человек достойный уважения?.. – Как отметил Дурылин, это обращение к читателю, переносящее
внимание на личность Максима Максимыча, как бы подготавливает к следующей повести, где Максим Максимыч из рассказчика превращается в основное действующее лицо.
Слова автора о Максиме Максимыче и его оценка напоминают аттестацию настоящего кавказца в очерке Лермонтова «Кавказец»: «Настоящий кавказец человек удивительный,
достойный всякого уважения и участия» (Т. 6. С. 349).
Продолжение: «Максим Максимыч» >>>
|